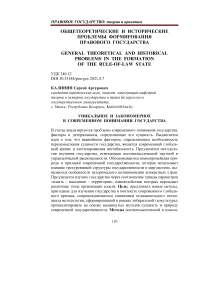Уникальное и закономерное в современном понимании государства
Автор: Калинин Сергей Артурович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 4 (66), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемы современного понимания государства, факторы и детерминанты, определяющие его сущность. Выдвигается идея о том, что важнейшим фактором, определяющим необходимость переосмысления сущности государства, является современный глобальный кризис и хаотизированная нестабильность. Предлагается методология изучения государства, отвечающая постнеклассической научной и управленческой рациональности. Обосновываются новоевропейская природа и признаки современной государственности, которая испытывает влияние трехуровневой структуры государственности в мир-системе, выявляются особенности исторического возникновения конкретных стран. Предлагается изучать государство через соотношение триады параметров «власть - население - территория», взаимодействие которых порождает различные типы организации власти. Цель: предложить новые методы, пригодные для изучения государства в контексте современного глобального кризиса, сопровождающегося снижением познавательного потенциала методологии, сформированной в рамках либеральной геокультуры; проанализировать на основе выдвинутых методов сущность и природу современной государственности. Методы постнеклассической и классической науки: включенности наблюдателя в познаваемую реальность, мир-системного анализа, субъектный, пространственного измерения, исторический. Результаты: исследование позволило выявить новоевропейскую природу современной государственности, приходящей в упадок в результате глобального кризиса, раскрыть исторические особенности формирования такого типа государственности, в том числе применительно к Республике Беларусь.
Государство, признаки и сущность, новоевропейская государственность, белорусская государственность, методология юриспруденции, факторы и детерминанты государственности, пространственное измерение государственности
Короткий адрес: https://sciup.org/142234107
IDR: 142234107 | УДК: 340.12
Текст научной статьи Уникальное и закономерное в современном понимании государства
Особенностью юриспруденции как сложной и многоаспектной сферы бытия является дуализм ее предмета, включающий неразрывно взаимодействующие на различных уровнях и взаимообусловленные государство и право, которые допустимо рассматривать в качестве видов публичной власти и социального регулирования. При этом сами вопросы сущности государства и права являются в правоведении наиболее сложными и, по сути, воспринимаются конвенционально применительно к конкретной эпохе, типу властвования и т. д. Такая конвенциональ-ность коррелирует с теоремами о неполноте формальных систем К. Гёделя и А. Тарского. На наш взгляд, государство и право необходимо рассматривать в качестве следствий ряда внешних и внутренних факторов и детерминант, поэтому их изучение целесообразно предварять выявлением таких феноменов, понимая, что они могут конвенционально учитываться (адекватно, чрезмерно либо недостаточно) либо отвергаться, а термины «государство» и «право» могут обозначать сущностно различные явления.
Изучение любой государственности, на наш взгляд, требует учета таких относимых к постнеклассической научной и управленческой рациональности методологических принципов, как детерминированность свойств познаваемого предмета качествами и ценностно-мировоззренческими стереотипами наблюдателя, включенность наблюдателя в познаваемую реальность.
То есть исследователь будет соотносить концептуальные проблемы государственности со своими мировоззренческими, историческими и иными стереотипами (ожиданиями), обусловленными как конкретноисторической сущностью конкретного государства, так и «властным»/ «социальным» заказом, направленным на бытие державы. В нашем слу- чае на познание влияет сложная субъектность Республики Беларусь – современного новоевропейского постсоциалистического полупериферий-ного государства. Белорусская государственность имеет сложную нелинейную многофакторную природу, исторически являясь объектом иных, имеющих линейный нарратив, государственных миропроектов [1]. Она возникла в ходе революционных событий 1917 г., вызванных комплексом противоречий в Российской Империи и тенденций в капиталистической мир-системе, максимально усиленных Первой мировой войной.
В настоящее время наиболее значимой детерминантой государственности является глобальный кризис легитимированной либеральной геокультуры капиталистической мир-экономики, вызванный дефицитом пространства и ресурсов для экстенсивного расширения, падением норм прибыли и утратой США роли мирового гегемона. Это объективно снижает эвристически-познавательный потенциал феноменов, порожденных данной мир-экономикой и геокультурой (демократия, права человека, правовое государство и т. д.), требуя выработки новых подходов, позволяющих анализировать хаотизированную реальность. При этом важными тенденциями и аксиомами современной социально-гуманитарной науки являются:
-
1) рассмотрение либеральных государственно-правовых моделей в качестве эталонных и универсальных, что ставит незападные цивилизации и страны в положение вечных учеников;
-
2) констатация кризиса национального государства, которое в силу «врожденного» авторитаризма должно «передать» власть международным структурам и транснациональным корпорациям, о «демократической» сути которых говорить затруднительно.
Важным этапом данного кризиса явилось и противостояние капиталистической и социалистической систем, завершившееся капитуляцией и разрушением последней. В результате этого кризиса Республика Беларусь обрела независимость. Распад СССР повлек глобальную дезинтеграцию успешного миропроекта, обусловил переход постсоветских республик в периферийную (колониальную) государственность. Данный процесс в первую очередь ударил по России, которая, имея все возможности создать альтернативный центр глобального развития, генетически связанный с православной традицией христианской цивилизации, отдающей предпочтение социальной справедливости, стремилась стать младшим партнером «цивилизованного мира». В результате постсоветские республики также стали интегрироваться в «цивилизованный мир», но за счет отрицания любой позитивности исторического взаимодействия с Русью-Россией, чрезмерной критичности к советскому периоду, негативного отношения к Победе в Великой Отечественной войне, виктимно-го национализма, русофобии и т. д. При этом Беларусь уже в 1994 г. отказалась от таких форм легитимации, выразив потребность в реинтеграции с Россией, в отстаивании положительной роли советского этапа истории, в необходимости самостоятельного целеполагания и т. д. Это отразилось в ответах на вынесенные на республиканские референдумы вопросы, которые заложили основу будущей интеграции Беларуси и России1.
Считаем, что на данном этапе изучение государства как многомерного феномена, диалектически взаимодействующего с правом, является более актуальным. Так, многомерность позволяет рассматривать термин «государство» как обобщающий, характеризующий историческую, отделенную от населения, территориальную публичную власть; государственность, признаваемую правильной (идеальной) в конкретный исторический период либо конкретной уникальной цивилизацией. То есть государство должно одновременно рассматриваться и как концептуально-методологический, и как конкретно-исторический феномен, что отражает присутствие в государстве как номотетических, так и идеографических аспектов.
Диалектическое взаимодействие (единство и борьба противоположностей) государства и права выражается в том, что государство, описываемое правом как совокупность органов и полномочий (юридическое лицо), представляет собой динамический феномен, в рамках которого классы (сословия и т. д.) стремятся к реализации собственных целей. Право же статически закрепляет и охраняет сложившийся на определенный момент и воспринимаемый (навязываемый) в качестве справедливого баланс интересов. То есть право выступает инструментом самоорганизации государства и представленного им социума.
Однако право имеет и иную природу, обеспечивающую нормирование власти и отражение в ней ценностно-мировоззренческой составляющей, которая и определяет параметры власти и государства как одной из ее форм. Поэтому требования об ограничении государства правом, управлении через право и т. д. целесообразно рассматривать именно в таком контексте.
Также диалектическая противоречивость отражается в том, что юриспруденция, направленная на осмысление внутригосударственной (национальной) системы права, как правило, рассматривает государство в таком же (одномерном, национальном) ключе. Однако государство всегда находится в определенных меж-(интер-)субъектных взаимодействиях, касающихся:
-
1) внешних субъектных систем, включающих конкретную государственность;
-
2) внутренних субъектных систем (сословия, нации, конфессии и т. д.), стремящихся воздействовать на государство в своих интересах либо интересах иных субъектов.
Переосмысление сущности государства, объективно влекущее и переосмысление его признаков, целесообразно, на наш взгляд, проводить через триаду параметров «власть – население – территория», идентифицируемых в качестве «своих» либо «чужих». Обращение к такой триаде, взаимодействия в рамках которой порождают различные формы властвования, позволяет изучать идеографические уникальные факторы, заложенные как в отдельных типах государственности, так и в конкретных исторических державах. Эти факторы могут приобретать и номоте-тическое закономерное значение.
Взаимодействие названных параметров и сложная природа государства, на наш взгляд, наиболее корректно могут быть описаны в рамках:
-
1) постнеклассического субъектного подхода [2], рассматривающего государства в качестве уникальных пространственно локализованных и историко-детерминированных систем, обладающих качествами самоорганизации, саморазвития и саморегулирования, находящихся в сложных меж-(интер-)субъектных взаимодействиях, способных к целенаправленному преобразованию реальности, действующих в рамках внешних хаотических воздействий;
-
2) мир-системного анализа, объясняющего наличие нескольких типов государственности в мир-системе в силу способности капитализма порождать внекапиталистические формы экономической деятельности.
Также мир-системный анализ как неомарксистская доктрина позволяет вести речь о социальных и иных противоречиях, способы разрешения которых порождают общественные структуры, а субъектный подход свидетельствует о качестве стратегического управления и пла- нирования, реализуемых в сложных кризисных условиях неясной природы и вступающих в конфликт с аналогичным целеполаганием иных субъектов (Failed state, перехват субъектности, управляемый хаос и т. д.) [3; 4; 5]. Это позволяет ввести в юриспруденцию термин «война», в том числе «гибридная война». Война – это «великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели» [6, c. 37], «подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами» [7, c. 12], характеризующая «вызовы» и качество «ответов» на них.
Использование мир-системного анализа позволяет именовать порожденную капиталистической мир-системой государственность новоевропейской, противопоставляя ее полисам, теократиям и империям [8]. При этом капиталистическая мир-система также порождает трехуровневую систему государственности (ядро – периферия – полупериферия), на которую оказывает влияние в том числе и пространственный фактор.
Западная политико-правовая наука начала активно осмысливать пространственную обусловленность государства, по сути, лишь с середины XIX в. Это совпало, выступив предпосылкой возникновения цивилизационного подхода, с очередной фазой колониального раздела мира и столкновением Запада с иными культурами, а также с трансформацией государственности, обусловленной переходом от феодализма к капитализму и обращением к национальной проблематике. Одновременно отметим корреляцию такого осмысления с «раздвоением» предмета юриспруденции, проявившимся в рассмотрении обусловленности сущности государства географическими и этническими факторами, вынесенными за рамки юридической науки, породившими феномены геополитики («политической географии») [9; 10, с. 19, 95–96, 105] и расовой теории сущности государства [11; 12; 13]. Так, Р. Челлен указывал на наличие у каждого государства «раз и навсегда ограниченного исторического ядра, за пределы которого оно не может выйти без ущерба для собственной жизнедеятельности» [10, c. 95–96, 105], ряд подходов к происхождению государства и права получили территориальноэтническую привязку [14; 15; 16; 17].
В XX в. на пространственную обусловленность государства оказали влияние Первая мировая война, повлекшая ликвидацию АвстроВенгерской, Германской, Оттоманской, Российской империй и возникновение на их территориях совокупности национальных государств («лимитрофов»), Вторая мировая война и последующий процесс деколонизации, обусловившие появление независимых государств в Азии и
Африке, а также распад СССР и советского блока. При этом во второй половине XX в. пространственная обусловленность государства получила новые ракурсы, вытекающие из глобального единства мира.
Пространственная детерминированность позволяет выделять взаимодополняемые и взаимодействующие локальный, великодержавный и глобально-цивилизационный уровни. Локальный уровень характеризует наименьшего субъекта самоорганизуемой публичной власти, находящегося в договорных (автономных) отношениях с субъектами более высокого уровня (феодальные структуры Западной Европы, княжества Древней Руси, протогосударственные племенные союзы и т. д.). Великодержавный уровень представляет собой систему связанных единой историей, географической и нарративно-историософской территорией, мировоззрением, династией локальных субъектностей, выступающую для них в качестве верховного субъекта и центра притяжения. Глобально-цивилизационному уровню соответствуют субъекты имперского типа, обладающие следующими признаками:
-
1) стремление к беспредельному владычеству и утверждение системы пространственной всеобщности;
-
2) исключение империей идей хода истории, закрепление существующего положения вещей, позиционирование империи как находящегося вне времени способа правления;
-
3) распространение имперской власти на все уровни социального порядка и стремление к созданию собственного мира;
-
4) метафизическое стремление к вечному и всеобщему миру за пределами истории [18, с. 12, 14].
Пространственная обусловленность государства может изучаться на основе следующих описывающих территорию методологических аксиом:
-
1) территория как пространство бытия конкретного государства;
-
2) территория как пространство меж-(интер-)субъектного взаимодействия и позиционирования этого пространства на «свое» и «чужое»;
-
3) рельефно-климатические детерминанты государственности;
-
4) этнонациональные детерминанты государственности;
-
5) глобальность мира как условие меж-(интер-)субъектных коммуникаций.
Базовыми признаками новоевропейской государственности, на наш взгляд, следует признать:
-
1) соотносимый с конкретной (реальной либо виртуально-нарративной) территорией суверенитет, обеспечиваемый как политикой государства, так и признанием соответствующей межгосударственной сис-
- темы (в данное время – через согласие/несогласие «международных наблюдателей» с выборами высших органов власти);
-
2) рассмотрение народа в качестве источника власти, породившее феномен национального государства (государства-нации);
-
3) монополия на легальное принуждение и унификация правовой системы;
-
4) социальная инженерия и управление населением;
-
5) сбор налогов на общесоциальные и инфраструктурные проекты;
-
6) инновационно-инвестиционная и инфраструктурно-техногенная природа, неразрывно связанная с капиталистическим укладом и поиском элитой источников собственного и общесоциального финансирования в условиях изменения технологических укладов;
-
7) детерминированность политики и функций местом в мир-системе.
Отметим, что ряд названных признаков могут относиться к любому типу государственности, а ряд – лишь к новоевропейской государственности, будучи уточняемыми применительно к конкретному типу организации власти (ядро – периферия – полупериферия).
Осмысление формирования и развития различных форм новоевропейской государственности не может быть корректным вне исторического метода. Данная государственность возникла на рубеже Средневековья и Нового времени, когда носители власти были вынуждены начать инновационное стимулирование экономики, создавать инфраструктуру и активно управлять населением, посредством войн и силового давления включать иные субъекты и регионы в собственные товарные цепочки. В результате государство превратилось в «обязательную контрольную точку» обеспечения экономического роста [8; 19; 20; 21; 22; 23]. Первоначально зарождение названной государственности происходило скрытно, в основном в Северной Италии (Возрождение), а с середины XVII в. (Реформация) его необратимые последствия, сопровождавшиеся упадком общеевропейских глобально-предельных субъектов (Святой Престол и Священная Римская империя германской нации), породили цивилизацию Модерна и капиталистическую мир-систему. Экспансия капитализма в сочетании с мировоззренческой агрессивностью и техногенностью обеспечила всемирное распространение данного типа власти, сопровождавшееся претензиями на универсальность применительно к любым периодам и народам, образованиям и формам организации. Это параллельно влекло уничтожение либо трансформацию (мо- дернизацию) неевропейской государственности, включение ее в логику капиталистической мир-экономики.
Первоначально новоевропейская государственность была представлена торгово-промышленными городами-государствами Северной Италии, затем абсолютными монархиями Испании, Франции и Великобритании, с последующим выделением вектора конституционно-олигархических правлений Нидерландов и Великобритании, стремящихся преимущественно к торгово-промышленному, но не территориальному (как абсолютные, основанные на бюрократическом управлении монархии) доминированию.
При этом изначальные государства ядра капиталистической мир-системы стали приобретать двойную сущность, вытекающую из необходимости территориальной консолидации населения и стимулирования экономического роста. В первом случае это собственно национальное государство, во втором – двухуровневая имперская государственность (метрополия – колонии).
В имперской государственности, на наш взгляд, стала достаточно четко проявляться колониальная и континентальная (территориальная) сущность, детерминирующая способы связей метрополии с колониями. Континентальные империи (Германия, Россия, Австро-Венгрия, Оттоманская Порта и др.) в своей основе строились на поиске моделей инкорпорации (с различными вариациями) присоединяемых территорий в общеимперскую структуру, а также включения региональной знати в силу классовой солидарности в общегосударственную элиту. При этом для давления на региональные элиты могли использоваться и местные классовые, религиозные, социальные и иные противоречия [24]. Континентальные империи объективно не могли лишь эксплуатировать колонии в интересах имперского домена в первую очередь в силу территориального контакта и необходимости обороны границ. Одновременно на окраинах, которым империя обеспечивала безопасность и определенное развитие при усилении социальных, религиозных, национальных и иных противоречий, формировались и развивались идеи о разрешении названных противоречий в отдельном национальном государстве [25, c. 50–94].
Колониальные империи (Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Испания и др.) имели заморские колонии, отделенные от метрополии, что позволило консолидировать население метрополии в единую нацию посредством всеобщего избирательного права и высокого уровня жизни, достигаемого грабежом. В итоге названные державы, скрывая имперскую сущность, глобально позиционировали себя демократическими национальными социальными государствами.
Параллельно на генезис национальной государственности влияли и иные тенденции:
-
1) формирование в XIX в. отдельных наций в рамках индустриальной экономики и образование единых рынков, во многом «разрывавших» логику реальной и фантомной имперской государственности;
-
2) стремление к социальной справедливости и перераспределению земельной собственности, находящейся в руках аристократии;
-
3) появление слоя национальной интеллигенции, сформированной из образованных «разночинцев» и стремящейся получить доступ к власти.
Окончание Первой мировой войны и Парижская мирная конференция (1919–1920) привели к созданию в Центральной и Восточной Европе совокупности новых национальных государств (государств-наций), претендующих на возвращение «исторических территорий» либо требующих «жизненного пространства» за счет неисторических народов, что, по сути, одновременно с борьбой Германии за доминирование в капиталистической мир-системе [26, c. 19–62] и было целью англосаксонского блока в данной войне. Уничтожение имперских образований позволило сформировать глобальный рынок, включающий небольшие слабые формально суверенные государства, не способные отстаивать свои интересы перед государствами ядра [27].
Как было отмечено, ликвидация континентальных империй после Первой мировой войны, распад колониальных империй после Второй мировой войны породили активные процессы государственного строительства на соответствующих территориях. На эти процессы подспудно влияли исторические особенности формирования территориальных и колониальных империй. В частности, применительно к территориальному постимперскому строительству важным фактором образования национального государства выступало наличие прерванного имперского проекта, что проявилось в будущих территориальных притязаниях (фантомный (несостоявшийся) империализм). Применительно к колониальному постимперскому строительству – наличие некой исторической формы публичной власти. Названные тенденции отразились и на процессах формирования белорусской государственности.
Первую попытку конституировать собственную государственность реализовал Первый Всебелорусский съезд (5–18 декабря 1917 г.), инициированный советской властью в Петрограде, но разогнанный Областным исполнительным комитетом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта и Советом народных комиссаров области и фронта по причине в том числе дискуссий о формах будущей государственности Беларуси [28]. При этом изначально виртуально-нарративная будущая белорусская государственность в силу локальности своей территории должна была избрать для себя центр притяжения, которым могла быть Россия либо Польша, а также вектор развития (социалистический либо капиталистический (мелкобуржуазный – в марксистской традиции)). Это и породило две конкурирующие модели белорусской государственности.
Во-первых, это ориентированная на советскую Россию социалистическая модель, представленная двухуровневой структурой власти (наднациональный центр и национальная республика (автономия)). Именно модель, направленная на разрешение существовавших противоречий и обеспечение победы в будущей мировой войне 1 , позволила сформировать реальную и исторически успешную белорусскую государственность – Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Это и обусловило постсоциалистическую и преимущественно социальную сущность Беларуси, требующую активной регулятивной позиции во всех социальных сферах и постоянного развития инфраструктуры в целях минимизации имеющихся диспропорций (конечно, в условиях ограничений, объективно вытекающих из сущности капитализма).
Во-вторых, это Белорусская народная республика (далее – БНР) – виртуальная модель государственности, провозгласившая себя в условиях немецкой оккупации, но без призыва к изгнанию захватчиков, не обладавшая реальной властью и готовая сотрудничать со всеми, кроме Советской России. При этом виртуальность БНР позволила ей приобрести идеализированный статус, сопоставляемый с объективно имеющимися негативными аспектами жизни советской и постсоветской Беларуси (идеал vs реальность). В реальности БНР не смогла бы разрешить существующие противоречия (вопрос о земле и т. д.), что придало бы ей антикоммунистический (мелкобуржуазный) и антироссийский вектор, а в ближайшей перспективе привело бы к включению Беларуси в состав либо Германии, либо Польши. Однако учреждение БНР констатировало наличие белорусской сельской нации, стремящейся к самостоятельному решению собственной судьбы.
Как отмечалось ранее, в основу новоевропейской государственности положено стремление власти к расширению собственной ресурсноинфраструктурной базы, позволяющей включать иные регионы, страны и цивилизации в собственные торговые связи и производственные отношения на правах младших партнеров либо рынков сбыта/источников сырья. Данные цели могли быть реализованы лишь при условии изменения сущности государственного управления и корректировки отношения к населению, которое, с одной стороны, должно выступить ресурсом, обеспечивающим достижение государственных целей, с другой стороны, получить определенное (без сомнения, формально-юридическое) право на управление государством и право на признание собственного достоинства. Поэтому важнейшим качеством и одновременно противоречием новоевропейской государственности является обусловленная идеей власти народа апелляция к правам человека и неспособность населения высокоразвитых государств существовать вне индустриально-техногенной инфраструктуры, обусловливающая важность социальной инженерии.
С одной стороны, это требует государственного регулирования в целях получения ресурсов для обеспечения названной инфраструктуры и выполнения социальных обязательств. При этом цифровизация позволяет качественно улучшить процессы социального управления и контроля, в том числе за счет нарушения прав на приватность. В частности, эпидемия COVID-19 требует от государства реализации соответствующей политики, успешность которой зависит не только от вакцинации, но и от наличия либо качества медицинской инфраструктуры, научных разработок и мощностей, позволяющих производить лекарства, вакцины и т. д.
С другой стороны, манипуляция народом посредством СМИ, социальных технологий и управляемого хаоса объективно может создавать предпосылки для деградации, либо захвата государственности, либо использования государственных средств для обогащения отдельных субъектов, в том числе иностранных или международных.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
-
1. Современные представления о государстве нуждаются в кардинальном переосмыслении, обусловленном комплексом внешних и внутренних вызовов и угроз неясной природы, при этом существующие в юриспруденции подходы, порожденные либеральной геокультурой, утрачивают эвристически-прогностический потенциал при разрешении проблем, возникающих перед государством. Переосмысление сущности
-
2. При переосмыслении государства необходимо учитывать его место и взаимодействие с правом в предмете юриспруденции, а также его многомерность и многозначность, отражаемую в том числе в концептуально-методологическом и конкретно-историческом измерении, что допускает использование таких методологических феноменов, как постнеклассический субъектный подход и мир-системный анализ. В настоящее время важнейшей детерминантой, обусловливающей бытие государства, является глобальный кризис капиталистической мир-экономики, в рамках которого выдвигаются идеи об отмирании национальных государств и передаче глобального управления на уровень международных организаций и транснациональных корпораций.
-
3. Изучение любой государственности в рамках постнеклассической научной и управленческой рациональности всегда осмысливается в рамках принципа наблюдаемости, то есть зависимости качеств познаваемого предмета от ценностно-мировоззренческих стереотипов познающего субъекта, включенного в познаваемую реальность. В нашем случае это сложная субъектность Республики Беларусь как современного новоевропейского постсоциалистического полупериферийного государства, имеющего сложную нелинейную многофакторную природу, позитивно взаимодействующего с глобально-имперской русской (российской) государственностью.
-
4. Наиболее распространенным в настоящее время типом государственности следует признать новоевропейскую государственность, обладающую качественной спецификой в зависимости от места в мир-системе (ядро – периферия – полупериферия), от пространственной детерминированности (глобально-имперские, великодержавные и локальные субъекты), а также от исторических особенностей возникновения (проявления) ее национальной сущности и глобально-имперских образований, ее включавших.
-
5. Переосмысление государства следует осуществлять в рамках трех основных его параметров, то есть триады «власть – население – территория», взаимодействие которых предзадает сущность государства и его признаков. В основу современной новоевропейской государственности положены принципы суверенитета, обеспечиваемого признанием межгосударственной системой, рассмотрения народа источником власти, а также управленческая природа государства, рассматривающего
государства требует как поиска новых методологических стратегий и принципов познания, так и выявления внешних факторов и детерминант, лежащих в основе любой государственности.
народ в качестве объекта социальной инженерии. Успешность новоевропейского государства зависит от его инновационно-инфраструктурных и техногенно-индустриальных объектов, без которых современное население не может существовать. При этом объективная потребность в социальной инженерии, реализуемой на качественно новом уровне за счет возможности обработки больших массивов данных при помощи информационных технологий, вступает в конфликт с правами человека, в том числе в силу того, что государство начинает действовать не столько в интересах народа как источника власти, сколько в интересах иных субъектов, как правило, бизнес-структур.
Список литературы Уникальное и закономерное в современном понимании государства
- Калинин С.А. Геоконцептуальное (нарративное) измерение в методологии познания белорусской государственности // Статут Вялшага Княства Л^оускага, Рускага i Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : С.А. Балашэнка (гал. рэд.) [i шш.]. Мшск : БДУ, 2018. С. 43-48.
- Калинин С.А. Субъектный подход: генезис, сущность и место в системе методологии юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 2. С. 6-21.
- Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление. URL: http:// spkurdyumov.ru/what/mann.
- Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы : пер. с англ. / науч. ред. Л.Л. Фитуни. 5-е изд., стер. М. : Претекст, 2007. 406 с.
- Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской государственностью : моногр. 3-е изд., испр. и доп. М. : Научный эксперт, 2013. 472 с.
- Сунь-Цзы, У-цзы. Трактаты о военном искусстве : пер. с ки-тайск. М. : АСТ ; СПб. : Астрель, 2011. 606 с.
- Клаузевиц К. фон. О войне : пер. с нем. М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. 861 с.
- Кревельд М. Расцвет и упадок государства : пер. с англ. / под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. М. : ИРИСЭН, 2006. 542 с.
- Хаусхофер К., Ратцель Ф. Теория «жизненного пространства» / пер. с нем. И.Г. Усачева. М. : Алгоритм, 2019. 239 с.
- Челлен Р. Государство как форма жизни / пер. с швед. М.А. Исаев. М. : РОССПЭН, 2008. 319 с.
- Гобино Ж.А. Опыт о неравенстве человеческих рас. М. : Одиссей : Олма-Пресс, 2001. 764 с.
- Саркисянц М. Английские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской «расе господ». СПб. : Акад. проект, 2003. 398 с.
- Чемберлен Х.С. Основания девятнадцатого столетия : в 2 т. / пер. Е.Б. Колесниковой. СПб. : Русский миръ, 2012.
- Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки : ст. М. : Прогресс : Пангея, 1995. 459 с.
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М. : Прогресс, 1988. 244 с.
- Савицкий П.Н. Континент Евразия. М. : Аграф, 1997. 461 с.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М. : Айрис-пресс, 2016. 557 с.
- Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. 2-е изд., испр. М. : Центр гуманитарных инициатив, 2013. 758 с.
- Андерсон П. Родословная абсолютистского государства / пер. с англ. И. Куриллы. М. : Территория будущего, 2010. 512 с.
- Кагарлицкий Б.Ю. От империй - к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации. М. : Издат. дом Высшей школы экономики, 2010. 675 с.
- Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в Х1-ХХ веках / пер. с англ. Т. Ованнисяна ; предисл. Г. Дерлугьяна ; науч. ред. и послесл. С.А. Нефедова. М. : Территория будущего, 2008. 456 с.
- Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой ; под ред. В. Автономова. М. : Издат. дом Высшей школы экономики, 2011. 384 с.
- Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. / пер. с англ. Т.Б. Менской. М. : Территория будущего, 2009. 328 с.
- Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд., испр. и доп. М. : Новое лит. обозрение, 2010. 316 с.
- Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. М. : Книжный мир, 2006. 259 с.
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века : пер. с англ. / под ред. В.Л. Иноземцева. М. : Логос, 2004. 353 с.
- Фурсов А.И. Мировая борьба. Англосаксы против планеты. М. : Книжный мир, 2016. 510 с.
- Брыгадзш П.1. Першы Усебеларусю з'езд (снежань 1917 г.): да стагоддзя // Журнал Белорус. гос. ун-та. История. 2017. № 3. С. 37-43.