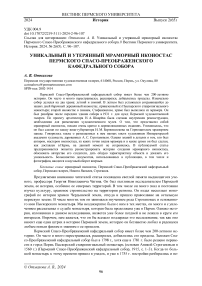Уникальный и утерянный мраморный иконостас Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора
Автор: Отмахова А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Страницы истории Пермского Прикамья. К 80-летию Г.Н. Чагина
Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Пермский Спасо-Преображенский кафедральный собор имеет более чем 200-летнюю историю. Он часто и много перестраивался, расширялся, добавлялись приделы. Изначально собор делился на два храма: летний и зимний. В летнем был установлен сохранившийся до наших дней барочный деревянный иконостас, привезенный из Пыскорского ставропигиального монастыря; второй иконостас в зимнем, Стефановском, храме был выполнен из мрамора. Он был разобран после передачи здания собора в 1931 г. для нужд Пермской художественной галереи. По проекту архитектора Н. А. Шварёва была сделана внутренняя реконструкция, необходимая для размещения художественного музея. О том, что представлял собой мраморный иконостас, писали очень кратко в дореволюционных изданиях. Упоминалось, что он был сделан по заказу вице-губернатора И. М. Борноволокова на Горнощитском мраморном заводе. Говорилось также о размещенных в нем иконах кисти художников Императорской академии художеств, дарованных А. С. Строгановым. Однако знаний в деталях о том, кто был автором, мастером иконостаса, из каких точно видов мрамора и в какие сроки он был сделан, как доставлен в Пермь, на данный момент не сохранилось. В публикуемой статье предпринимается попытка реконструировать историю создания мраморного иконостаса, обосновать авторство его создателя, дать общую характеристику объекта и доказать его уникальность. Большинство документов, использованных в публикации, в том числе и фотографии, вводятся в научный оборот впервые.
Мраморный иконостас, пермский спасо-преображенский кафедральный собор, пермская галерея, никита яковлев, строганов
Короткий адрес: https://sciup.org/147245323
IDR: 147245323 | УДК: 004.9 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-96-107
Текст научной статьи Уникальный и утерянный мраморный иконостас Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора
Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена светлой памяти выдающегося ученого, профессора Георгия Николаевича Чагина. Он был пытливым исследователем Пермской земли, ее истории, особенно ее северных территорий. В том числе он много знал и постоянно изучал культуру, храмовое строительство на территории региона. Он издал несколько монографий по истории храмов Чердынской земли, откуда и пришло православие на остальную пермскую землю. В числе многих тем он занимался изучением рода Строгановых и основанного ими Пыскорского монастыря. Мы неоднократно были с ним в тех местах, он много и с увлечением рассказывал о судьбе монастыря, которая была продолжена уже в Перми. Однако история, изложенная в данном исследовании, является уже более поздней и не лежала в круге его интересов. Впрочем, нам кажется, что он бы всецело поддержал это исследование, так как оно вносит еще один штрих в историю Пермской земли, которую он беззаветно любил и радовался любым новым фактам и знаниям о ее прошлом.
Пермский Спасо-Преображенский кафедральный собор имеет более чем 200-летнюю историю. Он часто и много перестраивался, расширялся, добавлялись его приделы. Заложен Спасо-Преображенский кафедральный собор был в 1798 г., хотя еще в 1781 г. было решено перевести в город Пермь Пыскорский ставропигиальный монастырь (основан Аникой Строгановым в 1560 г.) (Пермский Спасо-Преображенский кафедральный собор, 1915, с. 1–3). Когда-то большой монастырь к этому времени пришел в упадок, и уже в 1755 г. постройки разбирались и пе-
реносились на р. Лысьву, что в 11 км от его первоначального местоположения. Далее он был перенесен в Соликамск. Пермский губернатор Кашкин в 1781 г. ходатайствовал о переводе монастыря в Пермь. После этого последовал Указ Екатерины II от 3 марта того же года «О переводе монастыря в новоучрежденный город Пермь» (ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 34. Л. 30–32 об.). Таким образом, это был уже третий переезд монастыря. Главный собор Перми должен был быть высоким, с учетом того что в нем предполагалось установить 22-метровый барочный иконостас из Пыскорского монастыря.
Пермский Спасо-Преображенский собор, в здании которого с 1931 по 2023 г. находилась Пермская художественная галерея, делился на зимний и летний храмы. В летнем был установлен уникальный большой барочный резной иконостас, который удалось сохранить работникам галереи, несмотря на все попытки его демонтировать. А вот уберечь большой мраморный иконостас не смогли: он был разобран в 1931 г. Однако, как выясняется сейчас исходя из найденных документов и нескольких фотографий, разбросанных по разным архивам и музеям, был он не менее ценным.
В данной статье предпринята попытка сделать комплексный анализ этого уникального для России того времени сооружения. Для такого цельного исследования нами была проведена большая исследовательская работа по выявлению соответствующих постановке вопроса источников. Не было обнаружено упоминаний о наличии мраморных иконостасов в конце XVIII в. в церквях российских губерний. А тот факт, что сделан он был не из привозного, а из местного мрамора, да еще и местными мастерами, делает пермский мраморный иконостас исключительным явлением, который достоин внимания и тщательного изучения. Данная статья лишь начало исследований в этом направлении.
Иконостас как сооружение вышел из византийской иконостасной преграды и прошел несколько стадий. Об истории формирования, символике и литургических смыслах иконостасов написано немало исследовательских работ. Однако все они рассматривают в основном классический деревянный иконостас. Работ по мраморным иконостасам в России практически нет. Скорее всего, это обусловлено их редкостью и поздним появлением в храмах.
Одним из первых упоминаний о мраморном иконостасе в печати можно считать «Историческое описание соборных и приходских церквей, в Российской империи находящихся, с показанием времени построения оных», изданное в 1828 г. в Москве. Издание содержит очень краткие описания самых знаковых соборов и церквей всех губерний с упоминанием особенностей храмов и указаниями ценностей, которые в них находятся. В частности, там говорится и о Спасо-Преображенском кафедральном соборе: «В придельном храме заслуживает внимание в особенности иконостас мраморный, в котором местные образа писаны в С.Петербурге лучшими художниками; он прислан в сей храм Императором Александром I» (Историческое описание…, 1828, с. 109).
Через 10 лет Мельников-Печерский пишет «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь». Летом 1838 г. двадцатилетний Павел Иванович даже жил в Перми два месяца. Вот что он отмечает: «В теплой церкви этого монастыря, сооруженной во имя св. Стефана Великопермского, иконостас сделан из мрамора темно-кофейного цвета. Находясь в темной церкви, он не имеет хорошего вида. Я уже после узнал, что он мраморный; в первый раз, когда был в церкви, я принял его за простой деревянный старый иконостас, подобный тем, какие бывают в старинных церквах» ( Мельников-Печерский , 2017, с. 59). Чуть дальше он возвращается к описанию мраморного иконостаса и пишет о замечательных «иконах строгановского стиля», находящихся в этом иконостасе, хоть и не старых. Однако замечает, что «какой-то ревнитель итальянской живописи, подправляя эти иконы, положил на лица святых румянец и этим, разумеется, испортил все дело» (Там же, с. 188–189).
В том же 1838 г. епископ Нил предпринял путешествие из Вятки в Иркутск. Проезжая через Пермь, он посетил кафедральный собор: «Собор нового зодчества, и замечателен по мраморному своему иконостасу. Это изделие Екатеринбургской фабрики назначалось, как говорят, для Санкт-Петербургского Казанского собора; но почему-то не рассудили украсить им столичный храм» (ПЕВ, 1868, с. 324). В этой записи обнародована еще одна версия появления мра- морного иконостаса в Перми: возможно, он делался для нового кафедрального собора столицы, но по каким-то причинам туда не попал. И это единственное упоминание такого варианта происхождения пермского мраморного иконостаса.
Практически все публикации, повествующие о Спасо-Преображенском кафедральном соборе, вышедшие в «Пермских епархиальных ведомостях», а также пермские краеведы-историки, такие как Ф. А. Прядильщиков, Д. Д. Смышляев, А. А. Дмитриев, В. С. Верхоланцев, упоминают одни и те же факты и говорят о мраморном иконостасе одними и теми же словами: «Освящен теплый придел кафедрального собора во имя св. Стефана, просветителя великой Перми. Мраморный иконостас, с соизволения Государя, доставлен сюда из екатеринбургской гранильной фабрики, где был приготовлен по заказу вице-губернатора Борноволокова, для деревенской его церкви, потом засеквестирован начальством и лежал долго без употребления» ( Прядильщиков , 1883, с. 21).
Дмитрий Дмитриевич Смышляев уточняет, что «поставлен разноцветного мрамора иконостас, изготовленный на Горнощитском заводе Екатеринбургского уезда» (Сборник статей…, 1891, с. 148), и добавляет: «Вследствие возбужденного против Борноволокова обвинения в лихоимстве, иконостас этот, в числе прочего имущества обвиняемого, был засеквестирован и в 1808 г. Государем Александром Павловичем, по ходатайству графа Александра Сергеевича Строганова, пожалован пермскому кафедральному собору. К сожалению, этот великолепный иконостас превышал размеры церкви, и верхняя часть его в ней не уместилась, отчего изящество его фигуры значительно пострадало, представляя собою что-то незаконченное. Иконы для этого иконостаса, пожертвованные президентом Академии художеств графом Александром Сергеевичем Строгановым, писаны Угрюмовым, Егоровым, Шебуевым, Витбергом, Боровиковским и Безсоновым» (Там же).
Церковные документы кажутся наиболее беспристрастными в описании событий, но они и менее информативны. Например, в Генеральной описи собора 1834 г. читаем: «Теплый Кафедральный храм во имя Св. Стефана Епископа Велико-Пермского; в нем свод поддерживаемый четырьмя столбами; иконостас двуцветного мрамора, в средине с впадиною, искусной работы» (ГАПК. Ф. 137. Оп. 1. Д. 15. Л. 4). А в копии описи 1916 г. видим небольшое уточнение: «Иконостас разноцветного, преимущественно черного с крапинками шлифованного мрамора» (ПГХГ. Отдел учета. Дело о Спасо-Преображенском соборе. Кн. 1. Л. 52 об.).
Мог ли мрамор, пошедший на изготовление иконостаса быть местным, уральским? Активная разработка залежей мрамора началась на Урале около Екатеринбурга в 1738 г. «Мрамор добывался при заводах: Полевском, Северском, около Горного Щита и в Кушвинских заводах по реке Туре. Из сего мрамора приготовляли: столы, половые плиты, ступени, колонны и пьедесталы, из коих некоторые уже отправлялись в Санкт-Петербург», – свидетельствуют документы того времени (Горный журнал, 1827, с. 132–133). В середине XVIII в. были организованы фабрики для обработки камня в Екатеринбурге, Северском и Горном Щите. Мраморные плиты для полов, лестниц в большом количестве уходили на строительство Царскосельского дворца.
В 1765 г. экспедиция во главе с генералом Я. Данненбергом была послана в Екатеринбург «искать разные каменья» [ Павловский , 1953, с. 24]. Чуть позже она превратилась в стационарное учреждение со штатом, приисками и заводами, которое стало носить название «Экспедиции мраморной ломки и прииска цветных камней». В ее составе были отечественные и зарубежные специалисты, которые сошлись во мнении, что качество мрамора превосходное, в итоге был организован Горнощитский мраморный завод. Сюда были направлены ученики из Санкт-Петербурга и мастера из Италии, привлекались для обучения и работы и местные крестьяне. Это был достаточно длительный и болезненный процесс формирования профессионального сообщества.
Потребность в мраморе для строительства домов в Санкт-Петербурге была велика. Много крупных деталей было выполнено в 60–70-х гг. XVIII в. для больших столичных зданий [Там же, с. 33], в том числе для Зимнего и Мраморного дворцов. Законченным произведением из горнощитского мрамора стал Мраморный (Палладиев) мост, который до сих пор украшает Екатерининский парк в городе Пушкине, или Сибирская Мраморная галерея в Царском Селе.
С января 1782 г. Экспедиция мраморной ломки стала подчиняться генерал-губернатору Тобольскому и Пермскому Е. П. Кашкину и Пермской казенной палате «и состояла под ведением оной до 1797 года» (Горный журнал, 1927, с. 138). С 1801 по 1805 г. начальником экспедиции состоял граф А. С. Строганов. Затем она была упразднена, заводы переподчинили горному начальнику и напрямую Кабинету Его Императорского Величества, в который входили предприятия, обслуживающие императорские дворцы.
Одним из талантливых мастеров, который в 1774 г. получил звание архитекторского помощника, был Никита Яковлев [ Павловский , 1953, с. 26]. Точных сведений о дате и месте его рождения пока нет, биография мастера прослеживается с 1769 г., когда он приехал в составе группы «для обучения камнерезному художеству» в Экспедицию мраморной ломки. В некоторых исследованиях утверждается, что до этого он начинал службу рисовальщиком в ведомстве Конторы строений в Санкт-Петербурге и с 1765 г. был «учеником при архитекторе Волкове» [Там же, с. 25].
Последнее утверждение представляется спорным, поскольку архитектор Федор Волков родился в 1755 г. и вряд ли мог наставлять учеников в 10-летнем возрасте. Но, как бы то ни было, именно Никита Яковлев имеет непосредственное отношение к изготовлению мраморного иконостаса для Спасо-Преображенского кафедрального собора Перми.
По архивным документам удалось восстановить историю заказа, имя мастера, его изготовившего, и внешний вид, включая количество деталей, их расцветку и даже вес.
В Государственном архиве Свердловской области находятся интереснейшие документы. Прежде всего, рапорт от 3 сентября 1791 г. «архитектурного помощника и мастера Яковлева», который сообщает, что в августе, когда тот был в Перми, вице-губернатор Иван Михайлович Борно-волоков устно приказал сделать из двух сортов мрамора три иконостаса и посулил, что за это будет заплачено из казны. Чиновник также обещал прислать письменное повеление. Однако Никита Яковлев спешил и просил разрешение у Экспедиции мраморной ломки, не дожидаясь письменного повеления, начать работу, чтобы «летнее время не упустить» (ГАСО. Ф. 770. Оп. 1. Д. 411. Л. 1). Уже 5 сентября 1791 г. был подписан Екатериной II указ, которая, послушав доношение Пермской казенной палаты кавалера Борноволокова, «просит повелеть потребной для строящейся в его селе церкви мраморной иконостас под руководством означенного мастера Яковлева находящимися при горнощитском мраморе мастеровыми людьми сделать» (Там же. Л. 2 об.).
Для создания иконостаса был необходим еще и нижнетуринский мрамор, его Борноволо-ков обязался доставить «своим коштом», т.е. за свой счет. Уже 6 сентября 1791 г. в п. 1 журнала Экспедиции мраморной ломки записано: «Указ Пермской казенной палаты из Экспедиции горных дел, о сделании при горнощитском мраморе под руководством архитектурии помощника и мастера Яковлева мастеровыми, Пермской казенной палаты господину вице-губернатору и кавалеру Ивану Михайловичу Борноволокову из нижнотуринского мрамора в строющейся в селе его церкви иконостаса. К чему и перевозку потребного нижнотуринского мрамора и незадол-жению казенного капитала предоставить на собственное его господина вице-губернатора распоряжение. И что по сделании оного казенного кошту употреблено будет для возвращения в подлежащую сумму о представлении во оную Экспедицию приказал» (Там же. Л. 3 об.). В итоге 9 сентября Никита Яковлев получил официальное письменное распоряжение о начале производства мраморного иконостаса.
Названные документы подтверждают информацию о том, что вице-губернатор Иван Михайлович Борноволоков заказал иконостас для церкви в своем селе. Даже, как говорится в первом документе, речь шла в том заказе не об одном, а о трех иконостасах. Остается пока загадкой, о каком именно селе идет речь. Сам господин Борноволоков не был уроженцем Прикамья, происходил из дворян Костромской губернии, пермских поместий не имел. Жена его также владела землями только в Костромской и Ярославской губерниях.
Интерес пермского вице-губернатора к горнощитскому мрамору вполне понятен: как представитель пермской власти и губернской Казенной палаты он знал о заводе и о хорошем качестве добываемого мрамора. Но идея создания мраморного иконостаса для православного собора весьма необычна для того времени. Каменные, мраморные, фаянсовые иконостасы бу- дут распространятся в церквях России примерно 60 годами позже описываемых событий, только в середине XIX столетия. Откуда взялась идея создания мраморного иконостаса у пермского вице-губернатора, пока не ясно. Ранее упомянутая версия епископа Нила о том, что этот иконостас предназначался для Казанского собора в Санкт-Петербурге, все же видится ошибочной. Строительство собора началось в 1801 г., т.е. через 10 лет после заказа пермским вицегубернатором иконостаса на Горнощитском мраморном заводе.
О самом Иване Михайловиче Борноволокове нашлось немного сведений. Вначале он двигался по военной карьерной лестнице. Затем в 1779 г. был назначен костромским прокурором, а уже в 1781 г. – пермским губернским прокурором. Возможно, случилось это благодаря протекции генерал-губернатора Пермского и Тобольского Евгения Петровича Кашкина, который был назначен в Пермь в мае 1780 г. Кашкин и Борноволоков являлись близкими родственниками: они были женаты на родных сестрах Сафоновых. Уже в январе 1787 г. Иван Михайлович был назначен вице-губернатором. Однако через полтора года его свояка и начальника Евгения Петровича Кашкина перевели в Ярославль. Борноволоков остался без влиятельного покровителя. И уже в 1792 г. «в связи с «происшедшими по Пермской казенной палате замешательствами и беспорядками» он был отстранен от должности вице-губернатора и предан суду [Власть и закон, 2020, с. 40]. В 1798 г. суд постановил, что ущерба казне не было, и оправдал чиновника, но в 1799 г. было открыто новое дело по другому поводу, в ходе которого Борново-локову вменяли очень крупную недостачу в казне. Семья бывшего вице-губернатора находилась на грани банкротства, имущество было выставлено на аукцион, и даже было продано имение жены. Борноволоков продолжал бороться и писал в Сенат. По итогам долгих разбирательств в апреле 1806 г. Сенат вынес оправдательный вердикт, не найдя за Иваном Михайловичем преступлений и хищений. Борноволоков пытался вернуть деньги, но напрасно – иски о возврате и компенсации не были удовлетворены [ Шилов , 2019, с. 213].
Что касается заказанного Борноволоковым мраморного иконостаса, то он был закончен Никитой Яковлевым в марте 1796 г., о чем он рапортовал в соответствующей докладной записке. В ней он также отчитался о том, что из нижнетуринского мрамора было сделано 296 деталей и использовано для этого 1518 пудов 20 фунтов по цене 35 копеек с четвертью за пуд. В той же записке говорится о том, что мрамор нужно вернуть в казну (ГАСО. Ф. 770. Оп. 1. Д. 470. Л. 1– 1 об.). Для этого все детали были взвешены два раза коллежским регистратором Александром Злыгостевым вместе с Никитой Яковлевым, и оказалось, что использовано сначала 1510 пудов, а потом и вовсе 937 пудов 20 фунтов. Именно эта цифра и была записана в приход казны в ноябре 1796 г. Таким образом, на иконостас господина Борноволокова был наложен арест, и мраморное изделие оставалось в ящиках на заводе долгих 10 лет.
Подведем промежуточный итог: мраморный иконостас делался на Горнощитском мраморном заводе четыре с половиной года под руководством мастера Никиты Яковлева. Скорее всего, он был и архитектором этого произведения, поскольку обладал достаточным опытом и знаниями: к тому времени он уже был архитектурным помощником и имел почти 30-летний стаж работы с мрамором.
Продолжение истории обнаруживается в документах Государственного архива Пермского края. В январе 1807 г. казначей иеромонах Лаврентий сообщал епископу Пермскому и Екатеринбургскому Иустину, что в апреле 1806 г. по поручению Пермской духовной консистории он ездил на Горнощитский завод за принятием мраморного иконостаса, «который хотя и был мною принят по описи, но по неудобности к переноске оного на пристань, отдан обратно в хранение оного завода начальнику господину обергмейстеру Андрею Булганову» (ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 8А. Л. 81). Он же сообщал далее, что иконостас «немалой ценности», а вот укреплен плохо, поэтому его надо бы лучше закрепить, чтобы не разбить и удобно было нести. Перевозка иконостаса была возложена на благочинного иерея Иоанна Попова. Доставлялись грузы в то время по Чусовой и Каме беспалубными барками типа «коломенка». Бывало, что они разбивались и уходили на дно со всем грузом (ГАСО. Ф. 770. Оп. 1. Д. 302). Но мраморный иконостас доставили благополучно в губернский город в апреле 1807 г., о чем упомянутый казначей иеромонах Лаврентий сообщал 16 апреля. Доставлен он был Иоанном Поповым за 80 рублей и
46 ¾ копеек, а 19 апреля принят Лаврентием на пристани: «При выгрузке упомянутого иконостаса из судна на берег заплачено рекрутам и колодникам и смотрителю за оными унтер офицеру через 3 дня всего 18 рублей» (ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 8А. Л. 93).
Дальше ящики с мрамором нужно было доставить с пристани до строящегося собора. Несмотря на вроде бы небольшое расстояние, задача была не из легких, так как пристань находилась под горой, а архиерейские покои и строящийся собор – на горе. Эту работу подрядились сделать Иван Костарев и Егор Блинов из Верхних Муллов, а также Григорий Верхоланцев из деревни Данилиха с товарищами. В 116 ящиках оказалось 3942 пуда 39 фунтов, а это почти 65 тонн мрамора. За работу по переноске грузчики запросили по 2 копейки за пуд, итого получилось 78 рублей 85 копеек (Там же. Л. 95). С работой они справились за четыре дня. Интересна резолюция епископа Пермского и Екатеринбургского Иустина на рапорте о доставке иконостаса: «…выдать 83 рубли: ибо мы выдели сами их великие труды, да и кони их много изнурялись для храма Божия. Сверх всего такого прибавления Бог щедровал своим вознаграждением... Сверх сего написать от нашего лица благодарности и представить нам к подписанию. 24 апреля 1807 года» (Там же). Епископ Иустин, как отмечают его современники, был образованным человеком добрейшей души, поэтому, видя из окон архиерейского дома, как тяжело было и людям, и лошадям, распорядился поощрить крестьян.
Весь иконостас был принят по очень подробной описи, в которой расписано количество деталей, ящиков и вес каждой детали и ящика. Кроме того, указан материал, из которого выполнена та или иная деталь. Большая часть и самые крупные детали выполнены из горнощит-ского и нижнетуринского мрамора. Например, базаменты на правую и левую стороны сделаны из горнощитского мрамора в количестве 5 штук на каждую, а из «нижнетуринского мрамора рамы, в кои вставляться будут местные образа» (Там же. Л. 97). Однако некоторые детали сделаны из серпентинита (змеевика) и черновского мрамора. По описанию получается очень красивое сочетание разных мраморов, и небольшие акценты расставлены с помощью зеленоватого змеевика. Таким образом, описание в различных публикациях иконостаса как сделанного из разноцветного мрамора соответствует действительности.
В отчетном документе Казначейской конторы значатся все расходы на строительство кафедрального собора с 1805 по 1807 г. включительно. В нем есть строка «За доставку мраморного иконостаса из Горнощитского завода употреблено 779 рублей 25 копеек» (Там же. Л. 86 об.).
Итак, мраморный иконостас был доставлен в Пермь в апреле 1807 г., что опровергает принятую ранее информацию о том, что иконостас был жалован Александром I в 1808 г. Что касается остальных деталей, то, скорее всего, описания событий пермскими историками XIX в. соответствовали реалиям. Граф А. С. Строганов поспособствовал передаче бесхозного иконостаса в губернский город Пермь. Как государственный деятель он присутствовал в Перми на открытии Пермского наместничества, имел большие земли в Пермской губернии, знал о строительстве Спасо-Преображенского кафедрального собора. Он сам в то время руководил возведением кафедрального Казанского собора в Санкт-Петербурге и хорошо понимал все трудности строительства. Кроме того, 23 января 1800 г. Именным Его Величества Указом графу А. С. Строганову повелевалось «быть Президентом Академии Художеств, Императорских библиотек, директором и Главным Начальником в Экспедиции Мраморной Ломки и приисков цветных камней в Пермской губернии» (Юбилейный справочник Императорской академии художеств, 1914, с. 24). Будучи начальником Екатеринбургской экспедиции мраморной ломки, он не мог не заметить большой мраморный иконостас, который уже много лет лежал в ящиках на территории завода. Допустить такой расточительности он не мог, поэтому и ходатайствовал перед Александром I о передаче казенного имущества в строящийся Пермский кафедральный собор.
Далее, как гласит легенда, президент Императорской академии художеств Александр Сергеевич Строганов жаловал в Пермь работы художников-академиков Г. И. Угрюмова, В. К. Шебуева, А. Е. Егорова, А. Л. Витберга и В. Л. Боровиковского, которые в это же время выполняли заказы и для Казанского собора. Эту версию косвенно подтверждают и церковные документы. Так, в 1810 г. благочинным разных уездов полетели письма из Духовной консистории о сборе денег «…на уплату образов для мраморного иконостаса в Пермский Кафедральный собор, изготавливаемых в Санкт-Петербурге искуснейшими живописцами в Академии художеств при попечении его сиятельства графа Александра Сергеевича Строганова» (ГАПК. Ф. 109. Оп. 1. Д. 13. Л. 15 об.). Таким образом, граф не совсем пожертвовал работы художников, за них было заплачено, и, скорее всего, сумма оказалась немалая, раз деньги собирали со всей губернии. Оно и понятно: все-таки академики не могут «разбрасываться» своими работами просто так. Время было дорого, и его явно не хватало: именно эти художники в это же самое время писали иконы для Казанского собора в Санкт-Петербурге, и, конечно, эта работа для них была в приоритете.
Восемь работ академического письма, поступивших в коллекцию галереи из собора, нашлись, но пока они точно не атрибутированы. На данный момент не удалось обнаружить документа или провести точные исследования, кисти каких художников принадлежат эти работы. Однако всех их объединяет общее свойство: они писаны на холсте и явно представляют академическую школу живописи.
Зимний собор в честь Стефана Великопермского был освящен в 1820 г., через год после освящения летнего Спасо-Преображенского собора. Доделки в теплом храме шли до последнего момента. В частности, протоиерей Дмитрий Квашнин 20 октября 1820 г. просил епископа Иустина выплатить 223 руб. служителю Дмитрию Сиринову, повару Андрею Александрову и некому Шеину за то, что «исправляемы были различные и немаловажные работы и потделки, кои все в настоящее время и приведены к желанному окончанию». Среди прочих работ числится: «мраморный иконостас от копоти вычистить, вымыть и досуха обтереть» (ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 100. Л. 178–179). Это может говорить о большой заботе об иконостасе, понимании его красоты и ценности. Однако сохранить красоту иконостаса, видимо, было трудно, и, как писал П. И. Мельников-Печерский, уже через 19 лет он имел не очень приглядный вид. То ли иконостас действительно закоптился за два десятка лет, то ли Павел Иванович не очень всматривался или пришел в темное время суток, сейчас неизвестно. Но по фотографиям начала XX в. вид у иконостаса вполне презентабельный.
Еще есть некоторые сведения, описанные в литературных источниках, но пока не подтвержденные документально. Пермский краевед и летописец Федор Афанасьевич Прядильщиков в своей знаменитой «Летописи города Перми» пишет: «По самой высоте придела верхний ярус иконостаса надлежало отнять, от чего сооружение лишилось почти всей его красоты» ( Прядильщиков , 1883, с. 21). Вслед за ним историки А. А. Дмитриев и Д. Д. Смышляев повторяют эту информацию. Упоминается и разговор императора Александра I, который, будучи в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Перми осенью 1824 г., видимо, заподозрил неладное, поинтересовался, «весь ли тут иконостас?» [ Вяткин , 1999, с. 7]. Однако достоверных документов, подтверждающих данные о том, что иконостас был лишен верхнего яруса, поскольку не помещался по высоте собора, пока не обнаружено.
Далее судьба иконостаса и его икон практически не изучена. Есть несколько однообразных упоминаний, сказанных вслед за Мельниковым-Печерским, о том, что кто-то не очень умелый поновил иконы. Д. Д. Смышляев и А. А. Дмитриев повторяют эту историю спустя 40 лет, употребляя более жесткие формулировки: «По многим из этих драгоценных произведений столь знаменитых художников прошлась кисть какого-то местного маляра» [ Дмитриев , 1889, с. 178–179]. Справедливости ради необходимо сказать, что на некоторых сохранившихся иконах мраморного иконостаса действительно просматриваются неаккуратные вмешательства и поновления, сделанные, скорее всего, для усиления цветовой гаммы. Однако более точно судить об этом можно будет только после реставрационных работ.
Кто и когда мог выполнить такие поновления? Был ли это Иван Бабин, который писал другие иконы для этого же иконостаса в конце 1810-х гг. и «подгонял» под нужный размер окон иконостаса работы императорских академиков? Или случилось это уже во второй половине 1840-х гг., когда художники Орлов и Баталов расписывали летний собор? Или в 1854– 1855 гг., когда был закончен переход между колокольней и зимним храмом, а «после окончания означенной пристройки мраморный иконостас в сем храме поновлен и украшен золотою резьбою»? (ПГХГ. Отдел учета. Материалы о бывшем кафедральном соборе. Кн. 3. Л. 36 об.).

Рис. 1. Пермь. Зимний собор: иконостас. 1917 г., Санкт-Петербург. Фотоотдел Научного архива Института материальной истории РАН, II 39330

Рис. 2. Пермь. Мраморный иконостас Спасо-Преображенского кафедрального собора во время разбора.
1931 г. Стеклонегатив. Архив ПГХГ
После революции мраморный иконостас еще несколько раз фигурирует в документах (см. рис. 1–3). В 1931 г. директор галереи Николай Николаевич Серебренников пишет в сектор Главнауки Наркомпроса РСФСР: «...неуклюже скомпонованный, с добавлением в него подкрашенного под мрамор дерева, был окончательно в 1854–1855 гг. обезображен позднейшими по-новлениями и введением в него позолоченной резьбы, о чем свидетельствует приложенная фотография. По разрешению музея этот иконостас, в соответствии с мнением местных специали- стов, как не заслуживающий сохранения в неизменном виде и препятствующий приспособлению здания для галереи, подвергнут разборке, иконы из него, как и из других частей здания в тех случаях, когда характер изображения позволяет относить эти иконы к работам видных художников, хотя бы и записанных позднее, отобраны музеем и отложены до испытания путем расчисток» (ПГХГ. Научно-ведомственный архив. Ф. 1. Д. 8. Л. 170 об.–171).
Последнее упоминание о мраморном иконостасе находим в книге Владимира Трапезникова «Летопись города Перми», которая была подготовлена к печати в 1937 г.: «После ликвидации собора по небрежности руководителей музея мрамор был растащен» ( Трапезников , 1998, с. 21). В одном предложении – вся боль сотрудника краеведческого музея, которым был автор этой работы с 1930 г. В декабре 1937 г. В. Н. Трапезникова расстреляли в ходе репрессивных кампаний против краеведения. Сама книга была издана только в 1998 г.

Рис. 3. Пермь. Фрагмент мраморного иконостаса Спасо-Преображенского кафедрального собора во время разбора. 1931 г. Стеклонегатив. Архив ПГХГ
Подведем общий итог источниковедческого поиска: приоткрыта завеса тайны создания пермского мраморного иконостаса ‒ единственного объекта такого рода на территории Пермской губернии. Удалось верифицировать имя автора и мастера, создавшего иконостас, ‒ Никиты Яковлева. Уточнено время создания иконостаса – 1791–1796 гг.; определены материалы, из которых он был сделан, установлен способ его доставки в губернский город. По совокупности данных можно с уверенностью говорить о мраморном иконостасе Спасо-Преображенского кафедрального собора Перми как об уникальном явлении того времени для провинциального российского города. Но на этом история мраморного иконостаса не закончена. Еще предстоит сделать немало исследований и выявить множество новых фактов, связанных с иконами, которые находились в этом иконостасе.
Список литературы Уникальный и утерянный мраморный иконостас Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора
- Власть и закон. Губернаторы и прокуроры Пермского края XVIII-ХХ в. Пермь: Пушка, 2020. 511 с.
- Вяткин В. Ставший символом Перми. Пермь: Изд. Перм. епархиального управления, 1999. 56 с.
- Павловский Б. Камнерезное искусство Урала. Свердловск: Свердлов. кн. изд-во, 1953. 152 с.
- Шилов А.В. Дважды судим и дважды оправдан. К оценке деятельности пермского губернского прокурора и вице-губернатора Ивана Борноволокова // Пермский сборник: сб. ст. Пермь: [б. и.], 2019. 328 с. EDN: DNXALG