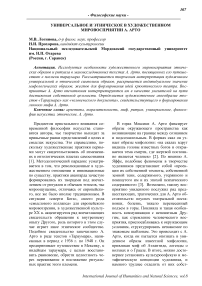Универсальное и этническое в художественном мировосприятии А. Арто
Автор: Логинова М.В., Прохорова Н.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 8 (23), 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследуются особенности художественного мировосприятия этнических образов и ритуала в малоисследованных текстах А. Арто, посвященных его путешествию к племени тараумара. Рассматривается творческая интерпретация художником универсальной и этнической символики образов, раскрывается индивидуальное значение мифологических образов, жестов для формирования идей крюотического театра. Воспринятые А. Арто впечатления интерпретируются им в качестве указателей на пути достижения собственной цельности. Определяется художественное своеобразие текстов «Тараумара» как «человеческого документа», свидетельствующего о формировании личного мифа А. Арто.
Архетипы, выразительность, миф, ритуал, универсальное, философия искусства, этническое, а. арто
Короткий адрес: https://sciup.org/170185386
IDR: 170185386
Текст научной статьи Универсальное и этническое в художественном мировосприятии А. Арто
Предметом пристального внимания современной философии искусства становятся авторы, чье творчество выходит за привычные рамки представлений о целях и смыслах искусства. Это справедливо, поскольку художественные практики первыми могут свидетельствовать об изменениях в онтологических пластах самосознания [1]. Методологический парадокс усматривается в том, что революционные в художественном отношении и инновационные по существу, практики авангарда зачастую формировались их творцами под впечатлением от ритуалов и обычаев этносов, чье мироощущение, отличаясь от европейского, все же было вполне традиционным. В ситуации «смерти Бога», своего рода «смыслового коллапса» для европейского мировоззрения, в художественной культуре ХХ в. акцентируется ряд впечатляющих свидетельств обращения к внутреннему опыту Другого, роль которого в этом случае играет иное этническое сообщество. Подобное свидетельство запечатлено А. Арто в ряде текстов «Тараумара», написанных в период с 1936 г. по 1948 г. Он предпринимает путешествие в Мексику, к индейцам тараумара, с целью восстановить равновесие, обрести целостность через переживание и постижение ритуальных практик этого племени.
В горах Мексики А. Арто фиксирует образы окружающего пространства как возникающие на границе между сознанием и подсознательным. В формах скал он узнает образы мифологии: «на скалах вдруг видишь головы известных богов и открывается тема смерти, где жертвой постоянно является человек» [2]. По мнению А. Яффе, подобные феномены в творчестве художников представляют собой «проекции их собственной темноты, собственной земной тени, содержимого, утерянного и покинутого им и их эпохой психического содержимого» [3]. Возможно, такому восприятию увиденного послужил ряд предшествующих, трагических для А. Арто обстоятельств: неуспех театральной постановки, болезнь, тяжело перенесенный подъем в горы. Повлияла и такая особенность коммуникации с непонятным Другим, как стремление человеческого восприятия, приспосабливаясь к окружающим условиям, структурировать незнакомое по знакомым шаблонам. Это происходит с А. Арто, когда он пытается опознать в увиденном образы известной мифологии, привлекая миф об Атлантиде, легенды о волхвах и о Граале. В итоге, можно достовернее установить культурософскую и метафизическую концепции художника, и намного труднее отделить от них собст- венно то, что составляет содержание воззрений тараумара. Отдельные образы воспринимаются в контексте известных ему универсальных культурных символов: крест, круг, свастика, треугольники, различно расположенные точки и т. д. Воспринимаемый художником ряд символов в декоративной вышивке традиционной одежды интерпретируется уже как своеобразие не просто этническое, но как проявление универсального духа в конкретике индивидуального: кресты, точки, круги, прямоугольники, капли не располагаются симметрично, подобно декоративным украшениям, не повторяются и соответствуют стилю и цвету лица человека, которых их использует [4]. С одной стороны, знаки, образы чуждой культуры воспринимаются как подлежащие культурной интерпретации; с другой, - этническое служит каналом для проникновения в универсальные пласты самосознания, а символический, знаковый ряд выступает средствами, указателями, ведущими к цели путешествия.
Жест - один из таких указателей в ритуале пейота. А. Арто представляет тараумара как народ, каждый жест которого обязательно несет философское значение. И здесь также трудно отделить метафизическую трактовку жеста самого А. Арто от наблюдаемого им в действительности значения жеста в жизни племени. Можно утверждать, что увиденные в ритуалах тараумара, в дальнейшем индивидуально интерпретируемые мифологические образы и жесты сыграли не меньшую роль в формировании идей крюотического театра, чем представления балийского театра.
Интерес к жесту связан с возможностью его максимальной выразительности. Жест может выразить ситуацию, он каждый раз рождается заново, конкретность жеста приобретается за счет архетипического воздействия [5]. Это одновременно выражение архетипического содержания и средство связи с ним, помещения себя в его смысловое поле.
Участие в ритуалах тараумара А. Арто описывает достаточно подробно и эмоционально настолько, что вызывает вопрос у читателя: эта детальность обусловлена мировосприятием свидетеля или смысловой насыщенностью самого ритуала? Взгляд А. Арто как участника стремится проникнуть сквозь поверхность ритуальных действий; в желании наблюдателя увидеть искомый смысл содержится некая предзаданность восприятия. Но, помимо свидетельства стремления А. Арто дать объяснение воспринятому в рамках культурной интерпретации, в текстах наличествуют следы того, что понимание случается в до-словном, через образы и жесты, тогда, когда прекращаются попытки заранее предписать Другому какое-либо историко-культурное толкование. Происходит это именно в моменты, когда в восприятии ритуала наблюдателю как бы само собой поддается «потоковая», без усилий, способность «удерживать конкретность - дру-говость Другого, не сводя к при-своению и о-своению в терминах своего языка» [6].
Таким образом, в текстах А. Арто невозможно установить точную принадлежность: его ли восприятию или собственно культуре этноса, свидетелем ритуалов которого он был, соответствует то, что он описывает. Эти тексты проникнуты неподдельной правдой художественного восприятия и глубокого переживания. Преломленное видением художника, свидетельство о чужой культуре приобретает достоверность именно в смысле «человеческого документа», основа документальности которого состоит в точном воспроизведении опыта индивидуального [7]. Тексты органичны в контексте концепции театра А. Арто, для которой важно серьезное вовлечение читателя/зрителя в авторские переживания и далее - во всю систему мироотношения художника. Для них характерна буквально ощутимая попытка передать читателю свое мировосприятие, сделать его воспринимающей частью своего внутреннего театра [8].
Исследовав особенности художественного мировосприятия этнических образов и ритуала на материале текстов А. Арто «Тараумара», можем утверждать присутствие в них его творческой интерпретации универсальной и этнической символики образов.
В своем восприятии художник проходит сквозь образные слои этнического к смысловому архетипическому полю. Этническое значимо для него как основа, список образов-паролей к универсальному, воссоединение с которым представляется ему необходимым обретением равновесия, цельности внешней и внутренней жизни. Воспринятые А. Арто впечатления интерпретируются им в качестве указателей на пути достижения собственной цельности. Образы и жесты ритуалов тараумара приобретают индивидуальное значение в формировании идей крюотического театра. Интерпретация этнического в контексте обретения преображающего духовного опыта определяет художественное своеобразие текстов А. Арто в качестве «человеческого документа» как свидетельства формирования личного мифа художника.
Список литературы Универсальное и этническое в художественном мировосприятии А. Арто
- Логинова М.В. Методологическое значение неклассической эстетики в гуманитарном знании//Интеграция образования. 2003. № 1. С. 124.
- Арто А. Тараумара. Тверь: Colonna Publications, Митин журнал, 2006. С. 53.
- Юнг К.Г. Человек и его символы. М.: Серебр. нити, 1997. С. 291.
- Арто А. Тараумара. Тверь: Colonna Publications, Митин журнал, 2006. С. 149.
- Максимов В.И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб.: Гиперион, 2007. С. 199.
- Логинова М.В. Проблема молчания в культуре//Фундаментальные проблемы культурологии. М.; СПб.: Эйдос, 2008. С. 311.
- Прохорова Н.И. Идея литературы как «человеческого документа» в культурном пространстве русского зарубежья//XXXIV Огаревские чтения: материалы научной конф. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С. 204.
- Логинова М.В., Прохорова Н.И. Анонимность как прием выразительности А. Арто//Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 5. С. 88.