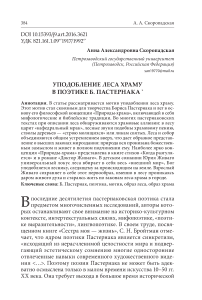Уподобление леса храму в поэтике Б. Пастернака
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается мотив уподобления леса храму. Этот мотив стал сквозным для творчества Бориса Пастернака и лег в основу его философской концепции «Природы-храма», включающей в себя мифологические и библейские традиции. Во многих пастернаковских текстах при описании леса обнаруживаются храмовые аллюзии: в лесу царит «кафедральный мрак», лесные звуки подобны храмовому пению, стволы деревьев - «строю молящихся» или ликам святых. Леса и собор объединяются общим устремлением вверх, что дает образное представление о высших законах мироздания: природа вся пронизана божественным замыслом и живет в полном подчинении ему. Наиболее ярко концепция «Природы-храма» представлена в книге стихов «Когда разгуляется» и в романе «Доктор Живаго». В детском сознании Юрия Живаго универсальный локус леса вбирает в себя весь «внешний мир», Бог уподобляется леснику, следящему за происходящим на земле. Взрослый Живаго сохраняет в себе этот первообраз, именно в лесу проникаясь даром живого духа и стараясь жить по законам леса-храма в городе.
Б. пастернак, поэтика, мотив, образ леса, образ храма
Короткий адрес: https://sciup.org/14748976
IDR: 14748976 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992'' | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3621
Текст научной статьи Уподобление леса храму в поэтике Б. Пастернака
Впоследние десятилетия пастернаковская поэтика стала предметом многочисленных исследований, авторы которых останавливают свое внимание на историко-культурном контексте, интертекстуальных связях, мифопоэтике, «поэтике выразительности», лингвопоэтике. В своем труде, посвященном книге «Сестра моя — жизнь», С. Н. Бройтман отмечает, что ядром поэтики Пастернака является синкретизм, «исходящий из нерасчленимой целостности мира и подвергающий эстетическому сомнению многие односторонние отвлеченные навыки современного художественного видения <…>. Поэтому поэзия Пастернака не может быть адекватно осмыслена только в малом времени искусства 10–50 гг. ХХ века. Она требует выхода в большое время исторической поэтики…» [4, 26]. Диахронический подход к исследованию сквозных тем и образов творчества Пастернака позволяет выявить эволюцию его творческой философии и художественного метода, а вписание пастернаковских текстов не только в контекст русской литературы, но и мировой культуры позволяет расширить диапазон метатекстуальных связей.
Афористичность многих пастернаковских строк концентрированно выражает отношение поэта к онтологическим, этическим и эстетическим вопросам. Возможно, поэтому многие исследователи, обращаясь к той или иной теме в творчестве Пастернака, в качестве названия используют его же стихотворные строки. Так, М. Эпштейн в книге «Природа, мир, тайник вселенной…», преследуя целью раскрыть в поэзии нового времени «целостный национальный образ природы» [24, 7], делает подробный и разносторонний обзор используемых в русской литературе XVIII–XX веков природных образов и мотивов. Примечательно, что заглавием (а в более расширенном виде — и эпиграфом) издания послужили заключительные строки стихотворения Пастернака «Когда разгуляется» (1956):
Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной, B слезах от счастья, отстою1.
В этом стихотворении, давшем название последнему циклу стихов Пастернака, наиболее ярко реализуется концепция «Природы-храма», столь близкая поэту. Сложный и неповторимый поэтический мир Бориса Пастернака вбирает в себя широкий диапазон тем и мотивов, но тема природы во все периоды творчества поэта остается доминирующей. «Ранний Пастернак влюблен в природу, он захлебывается ею как красотой женщины, он тонет в весеннем разливе. Поздний Пастернак находит тихую музыку космической литургии <…>. Природа (для ранних христиан полная языческих искушений) и собор сливаются в одно целое. Природа как бы стихийно несет в себе образ храма и находит в храме свое завершение» [18, 21–22]. Исследователи творчества Пастернака приходят к выводу, что его отношение к природе можно назвать пантеизмом: «всеобожествлением», «сознанием присутствия божественной силы во всех вещах» [22, 73]. «Он (Пастернак. — А. С.) всем безликим явлениям и образам жизни и мира дарует человеческие образы, а так как человек создан по образу и подобию Божьему, то можно сказать, что он все в природе и в жизни обожествляет <…>. Если считать, что христианство соединимо с пантеизмом, то пастернаковский пантеизм можно назвать христианским» [19, 68]. Еще один исследователь творчества Пастернака Н. Н. Вильмонт называет отношение поэта к природе христоцентризмом, переходящим в геоцентризм: «У позднего Пастернака <…> природа не живет “своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку”. Напротив, она — равноправная участница в попрании смерти “усильем воскресенья” <…>. Христоцентризм и геоцентризм (не донаучный, невежественный, а “религиозно-нравственный”, связанный с верой <…> в Землю, как в locus sacer2, где совершилось всемирное таинство Христова пришествия), <…> сопряжены друг с другом» [5, 131]. Даниил Данин не соглашается с точкой зрения, приписывающей поэту пантеистическое отношение к миру: «…для Пастернака действительно существовал Бог — с большой, бытие утверждающей, буквы. Не пантеистический — растворенный в природе. Не метафорический — растворенный в душе. А такой Бог, что можно обратиться к нему с надеждой быть услышанным» [9, 78–79]. Таким образом, отношение писателя к природе совмещает в себе мифологическое, философское и христианское, при том что сам Пастернак в позднем творчестве сознательно вступает в христианскую традицию.
Становление Пастернака как поэта проходило в сложнейший период отечественной истории, когда политические, социальные и культурные потрясения воздействовали на умы и сердца многих людей. Для возникших в начале XX века литературных течений одним из ключевых стал спор о том, стоит или не стоит сохранять достижения и ценности прошлого. Этот спор не мог не коснуться роли природы в культуре и цивилизации. Основной вопрос, в продолжение дискуссий XIX века, состоял в том, что такое природа: храм или мастерская. Отношение к природе как к храму, что было показано в работе Е. И. Марковой, наиболее ярко выразилось в творчестве писателей, вышедших из крестьянства: С. Есенина и Н. Клюева. Так, в поэзии Клюева природа уподоблена «живому богу», а храмом становится «многопредельный» хвойный лес, каждый из обитателей которого «выполняет функцию того или иного элемента храма» [15, 95].
В постреволюционное время было распространено отношение к природе как к неисчерпаемой кладовой для строительства светлого будущего. Утилитарные взгляды нового времени на природу выразил Увадьев, герой романа Л. Леонова «Соть»: «Увадьев <…> стал сражаться с лесом, который, по его мнению, противостоит культуре, является тормозом на пути развития человечества» [15, 97]. Но молодой Леонов намного глубже, чем его герой, видит сложившуюся проблему и понимает ограниченность подобной точки зрения, так как она не учитывает непреходящие ценности прошлого. В дальнейшем автор выразит свое отношение к природе в романе «Русский лес»: «Роман решительно изменял стержень связи “человек — природа”: еще вчера казалось, что природа приручена, покорена, с безропотным лицом <…> Нет же взвилось <…> леоновское слово: если гибнет лес, значит мрачнеть, сохнуть и человеческому бытию» (цит. по: [23, 74–75]). Лес становится главным образом-символом произведения и раскрывается с различных сторон: «…лес как одна из важнейших народнохозяйственных <…> проблем <…> страны, <…> лес как источник нравственных и духовных сил <…>, лес как залог здорового будущего всего человечества, лес просто как добрый друг, как русский богатырь» [17, 213]. Молодые герои романа Леонова проходят сложную, болезненную духовную эволюцию, для них природа из объекта пользования становится неотъемлемой частью народа и страны, а «в годы войны лес стал своеобразным союзником всех, кто отстаивал свою страну. Именно тогда Поля почувствовала себя “хвоинкой” русского леса, “человеческого леса”» [20, 387].
Образ природы как храма присутствует во многих произведениях Пастернака. По замечанию М. Дунаева, «в творческом сознании поэта природа все более сознается противостоящею суете беспамятного мира. Она преобразуется воображением в храм, в котором человек внимает великому богослужению вечной жизни, воспевающей Творца» [10, 222].
Пластическое воплощение концепция «Природы-храма» получила в природных образах сада и леса — важнейших образах-символах пастернаковской поэтики. Так, первый изданный Пастернаком сборник «Близнец в тучах» (1913) открывается программным стихотворением «Эдем»:
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд,
А вправь уйдет Евфрат.
Горит немыслимый Эдем В янтарных днях вина, И небывалым бытием
Точатся времена.
Минуя низменную тень, Их ангелы взнесут.
Земля — сандалии ремень, И вновь Адам — разут.
И солнце — мертвых губ пробел
И снег живых мощей
Того, кто всей вселенной бдел
Предсолнечных ночей.
Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайне первых дней: Курится рубежом любовь
Между землей и ней (1, 326).
В стихотворении автор, в качестве онтологических координат используя образы Адама и Христа, противопоставляет поэзию и любовь, которые являются рубежом «между высшим и земным миром» [8, 44]. Сила поэзии возносит поэта к Богу, тогда как любовь, с одной стороны, привела к грехопадению Адама, а с другой — открыла путь возвращения к Богу. Образ Эдема (= райского сада) через уже сотворенные Богом реалии (реки, солнце, земля… панорама) и человека (Адам) подводит читателя к смыслу творения — любви. По замечанию А. В. Барыкина, «парадигматика “Эдема” определяется приобщением образов всех природных стихий (оппозиционно настроенных): 1–2 строфы — “вода — огонь”, 3–4 строфы — “земля — воздух”. Это дает основания считать “Эдем” субстанцией первоэлементов творения, универсальным источником, исчерпывающим все возможности каких бы то ни было проявлений космоса» [2, 34].
Под влиянием пересмотра своего творчества в 1928 году Пастернак или отказался от своих ранних стихотворений, или же переработал их в духе собственных новых представлений о поэзии. «Эдем» как раз подвергся такой переработке, войдя в сборник «Начальная пора»:
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд, Правей пойдет Евфрат.
А посреди меж сим и тем Со страшной простотой Легенде ведомый Эдем Взовьет свой ствольный строй. Он вырастет над пришлецом И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом Вошел в семью лесин.
Я — свет. Я тем и знаменит, Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, ее зенит, Ее начальный день (1, 64).
Можно заметить, что после переработки, приобретя более ясную и прозрачную форму, стихотворение расставляет другие смысловые акценты. Поэт уже не возносится к Богу, а в качестве «исторического лица» входит в Эдем, который, в свою очередь, приобретает земные признаки, уподобляясь лесу. По мнению Л. Флейшмана, «вместо “доисторического” и “небывалого” Эдем изображается “возникающим”, “появляющимся” — в полном соответствии с “историческими” лирическими текстами Пастернака 1926–1928 годов “лес” здесь объявляется олицетворением исторической жизни» [21, 104–105]. Однако наиболее интересным для нас является то, что Эдем (= сад) в новой редакции приобретает метафорические признаки леса: «ствольный строй», «вошел в семью лесин». Комментаторы собрания сочинений в 11-ти томах предполагают, что лесные характеристики были взяты Пастернаком из стихотворения «Лесное», следующего в книге «Близнец в тучах» за «Эдемом», но не включенного в цикл «Начальная пора» (1, 429). Приведем текст стихотворения «Лесное»:
Я — уст безвестных разговор,
Как слух, подхвачен городами;
Ко мне, что к стертой анаграмме, Подносит утро луч в упор.
Но мхи пугливо попирая, Разгадываю тайну чар: Я — речь безгласного их края, Я — их лесного слова дар.
О, прослезивший туч раскаты, Отважный, отроческий ствол! Ты — перед вечностью ходатай, Блуждающий — я твой глагол.
О, чернолесье — Голиаф, Уединенный воин в поле! О, певческая влага трав, Немотствующая неволя!
Лишенных слов — стоглавый бор, То — хор, то — одинокий некто… Я — уст безвестных разговор, Я — столп дремучих диалектов (1, 327).
Здесь Пастернак продолжает тему поэта как глашатая природы: и если в «Эдеме» (особенно в поздней его переработке) поэт через процесс творчества сближается, соединяется с садом (= Эдемом), то в «Лесном» лирический субъект стихотворения, поэт, характеризует себя: «лесного слова дар». Через образ леса развивается тема становления поэта, задача которого — стать голосом природы. Уже в этом стихотворении определяется мотив уподобления леса храму, и одновременно с этим (что будет часто встречаться у писателя) лес становится метафорой жизни. По наблюдению Сюзанны Витт, определяющей возможные аспекты «лесной темы» у Пастернака, в последней строфе этого стихотворения присутствует анаграмма: строка «Лишенных слов — стоглавый бор» образует слово «собор». «Анаграмма, отождествляя лес с собором, отсылает нас к устойчивому в европейском искусстве и литературе образу леса как “храма природы”, и, прежде всего, к сонету Бодлера “Correspondences” <…> Однако если у Бодлера лес сплошь метафоричен (его образуют “символы”), то у Пастернака он выступает во всем своем вещественном величии со мхами и травой» [6, 183]. Прочтение «стоглавого бора» как «собора» может быть подкреплено следующей строкой: «То — хор, то — одинокий некто…», напоминающей о церковном пении во время службы. Подобное совмещение находим и в одном из поздних стихотворений «Музыка» (1957):
<…>он заиграл Не чью-нибудь чужую пьесу, Но собственную мысль, хорал, Гуденье мессы, шелест леса <…> (2, 175).
«Хорал» , « месса» метонимически соседствуют с шелестом леса, и это соседство ассоциативно рождает образ храма. Для Пастернака, посвятившего несколько лет музыке, звуковое наполнение текста было чрезвычайно важным. Звуковой пейзаж помогает ему объемно передать картины природы и создать смысловую многослойность текста. Так, в «Докторе Живаго» встречается описание пения соловья, оглушающего «лесные пределы» своим «славословьем грохочущим». Мы не видим соловья, но слышим его пение, которое помогает создать образ этой птахи. Соловей — певчий в огромном храме природы, и эта маленькая птичка тоже является участником событий. Так, он как бы призывает доктора к осторожности, предупреждает об опасности перед тем, как его возьмут в плен партизаны:
По мере того как низилось солнце, лес наполнялся холодом и темнотой. <…> В воздухе, словно поплавки на воде, недвижно распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на одной ноте <…>. Вдруг вдали, где застрял закат, защелкал соловей.
« Очнись! Очнись!» — звал и убеждал он, и это звучало почти как перед Пасхой: « Душе моя, Душе моя! Восстани, что спиши !» (курсив мой. — А. С .) (4, 303).
Среди нудного серого гула комаров голос соловья звучит резко и ярко. Он не только предупреждает Живаго об опасности, он старается пробудить его душу, призывает «очнуться». Образ соловья из романа перекликается со стихотворением «За поворотом» (1958), в котором голос маленькой птички, охраняющей вход в лес от «кого не надо», становится проводником в мир будущего:
<…> За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настежь (2, 188).
Что скрывается за формулировкой «будущее верней залога»? Смерть? Несомненно. Но христианское мировосприятие Пастернака при помощи распахнутого «вглубь» и «настежь» бора, подобно храму, принимающему страждущую душу, подводит нас к мысли о вечности, о воскресении души. Распахнутость леса, его открытость и прозрачность перекликаются с заглавным стихотворением цикла «Когда разгуляется»:
<…> Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев, Как живопись в цветном стекле.
B церковной росписи оконниц Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц Святые, схимники, цари.
Как будто внутренность собора — Простор земли, и чрез окно Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано <…> (2, 160).
Природа-храм раскрывается лирическому герою во всем своем величии и красоте, «открывает в картине мира Пастернака Бога, вследствие чего земное время приобретает способность в любой момент соприкасаться с Вечностью» [14, 77].
Тема божественности природного мира — одна из устойчивых в творчестве Пастернака. Например, стихотворение «Воробьевы горы» (1917), описывающее прогулку лирического героя с возлюбленной по Воробьевскому парку, композиционно выстраивается так, что обезбоженный мир первых двух строф преображается силой души («Расколышь же душу!»). М. Гаспаров в комментариях к этому стихотворению так определяет развитие темы: «…мысли — ввысь, и там — стихия того же леса, переход из мира природы в мир культуры, <…> этот мир природы создан таким свыше» [7, 79]. В русле же наших рассуждений отметим, что открывающийся герою мир природы овеян храмовыми аллюзиями:
-
< …> Здесь пресеклись рельсы городских трамваев. Дальше служат сосны. Дальше им нельзя. Дальше — воскресенье. Ветки отрывая, Разбежится просек, по траве скользя (1, 137).
Городская цивилизация пресекается, и начинается «служба сосен» (= церковная служба), начинается воскресенье («дальше воскресенье»), Троицын день, и именно роща (= лес) «просит верить: мир всегда таков», провозглашая незыблемость земных и божественных законов.
Деревья, по Пастернаку, обладают каким-то глубинным знанием о мире, которое доступно человеку при условии его слияния с природой. Так, герои стихотворения «Сосны» (1941) лежат в лесной траве «руки распрокинув» и «к небу головы задрав». Спокойное созерцание неба и окружающего леса позволяет героям слиться с природой, получив у нее временное бессмертие:
-
< …> И вот, бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены И от болей и эпидемий
И смерти освобождены <…> (2, 107).
Герои «причтены к лику сосен», как к лику святых, и мы опять наблюдаем наложение образа храма и образа леса, образа сосен и икон. Медитативное состояние героев, лежащих на траве и смотрящих в небо, сродни состоянию пребывающих во храме. «Нередко чувство Бога пробуждается в связи с созерцанием природы. Искусственный мир городской цивилизации часто притупляет духовную чуткость человека, ставит множество помех в приближении к Запредельному» [16, 47]. Так, в одном из первых стихотворений Юрия Живаго «На Страстной» именно природный мир чутко и болезненно откликается на евангельскую историю мучений Христа:
-
< …> И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом Пространстве, как на сходке, Деревья смотрят нагишом В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога <…> (4, 517).
Здесь значимо противопоставление леса и сада (= городского, окультуренного леса): природный лес, раздетый и непокрытый, уподобляется «строю молящихся», то есть пребывающему в коллективной, единой молитве в страшные дни Страстной недели. Городские же сады, в тревоге и ужасе «выходят из оград» и заглядывают в церковные решетки, наблюдая за пасхальной службой со стороны. Таким образом, городские деревья сочувствуют, но не соучаствуют в таинстве, в отличие от деревьев лесных, к этому таинству сопричастных. Городские сады только заглядывают в храм (причем храм как архитектурный объект, созданный человеком), а лес сам по себе является храмом (храмом природным, то есть созданным Богом).
Еще одна прямая аналогия между лесом и храмом содержится в одном из ранних стихотворений Пастернака «В лесу» (1917):
Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак <…> (1, 192).
Знойный летний день теряет свою силу в пространстве леса, где «кафедральный мрак», «мерцанье кропотливое». По замечанию К. В. Абрамовой, соединение леса и собора, сливающихся, устремленных максимально вверх, создает «намек на высшие, божественные силы, пронизывающие весь мир» [1, 68]. Как и в стихотворении «Сосны» (1941), герои растворяются в природе, проникая в законы мирозданья («он <мир> весь был их» (1, 192)). В стихотворении «В лесу» появление образа часовщика, склонившегося над лесом, как над часовым механизмом, становится прообразом смотрителя, хранителя леса, наиболее ярко воплотившегося в романе «Доктор Живаго». Сложная образная структура романа многообразно отражает различные значения концепта «лес», который реализуется в тексте «Доктора Живаго» как в прямом своем значении, представ в виде топоса, природного образа, пейзажа, так и в переносном значении, становясь символом внешнего мира, символом истории.
Так, в детских представлениях главного героя романа лес превращается в библейски многозначную метафору мира:
Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески, и шары на пожарных каланчах <…>. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недосягаемо высокое ночное небо со звездами, боженькой и святыми <…>. Но главное был действительный мир взрослых и город, который подобно лесу темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего (курсив мой. — А. С. ) (4, 88).
После того, как Юра потерял мать, он остался один в огромном мире, и этот мир стал представляться ему в виде большого и темного леса, враждебного, как в Ветхом Завете.
Чтобы не остаться одному в этом «дремучем лесу жизни», мальчик в «полузвериной» (= языческой, мифологической) своей вере придумал Бога-лесника, царящего над миром. Детские впечатления сильно повлияли в дальнейшем на все мировоззрение героя.
В анализируемом отрывке лес является символическим объяснением мироздания. Здесь природный образ леса характеризует город, весь «внешний мир», «все вещи на свете». В сознании ребенка Бог рисуется как хозяин — «лесник» этого мира взрослых. В универсальный локус леса включено и «недосягаемо высокое небо», откуда Бог-лесник наблюдает за происходящим на земле: в городе живет человек, который в отличие от других «божьих тварей», наделен разумом и волей, а значит, и правом выбора. Отсюда-то и его потерянность в окружающем мире: он мечется в своих исканиях по земле, забывая о Небе. Тварный же мир полностью подвластен Богу, действует согласно Его воле.
Детские впечатления играют немаловажную роль в сознании героя, проходя через всю жизнь Юрия Живаго, напоминая о совершенстве мироздания, о божественной одухотворенности природы, помогая ему обрести себя в трудные минуты жизни:
Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес . В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света . Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз , который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу , лес , вечернюю зарю и все видимое преображаться <…> (курсив мой. — А. С. ) (4, 341–342).
Как видно из этого отрывка, именно в лесу Юрий Живаго проникается «даром живого духа», это качество героя актуализировано в его фамилии Живаго, которая «совпадает с формой родительного падежа церковнославянского прилагательного “живый” (живой). В православных богослужебных текстах и Библии это слово применительно к Христу пишется с заглавной буквы…» [3, 368] (об этом см. также: [11, 488]; [13, 260]). В такие минуты лес буквально пронизан «столбами света» — непременным признаком нисхождения Святого Духа на землю, признаком Преображения. Вообще для описаний леса у Пастернака характерны такие определения как «чистый», «светлый», в то время как в описаниях явлений городской жизни, к которым относится и сад, преобладают мрачные, темные тона. Природа чиста и совершенна, и она становится тем образцом, ориентируясь на который, человек сам становится чище, словно преображается.
Контрастное содержание образов лес получает по отношению к образу поля в последних главах романа, где описывается возвращение Юрия Андреевича в Москву. Герой растерял всех своих близких, гражданская война уничтожила его дом, и по дороге в Москву он наблюдает картины разоренной войной страны:
Лес и поле представляли тогда полную противоположность.
Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники . <…>
Доктору казалось, что поля он видит тяжко заболев, в жаровом бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка диавола (курсив мой. — А. С .) (4, 465–466).
Братоубийственная война унесла сотни тысяч человеческих жизней, и поля «осиротели» без людей, обрабатывавших их. Родившееся зерно остается невостребованным и гибнет. Лес же, израненный в боях, радуется избавлению от постоянно разоряющего и оскорбляющего его человека. Пастернак все время стремится обожествлять природу, и «если она оскорблена наносимым ей человеком вредом, разрушением, — то расценивается это чуть ли не как дьявольское начало» [12, 313]. Поле наполнилось мышиной возней (мышь в народном сознании — нечистое животное, считающееся созданием дьявола), «неугомонным копошением, вызывавшим гадливость» (465). В лесу же чисто и просторно. По своей природе поле — открытое и просторное, а потому и беззащитное. Лес же неприступен — злу труднее проникнуть в него, и потому в лесу живет Бог. Живаго идет в большой город, и образ леса-храма в очередной раз запечатлевается в его душе как природное воплощение гармонии, единства и полной подчиненности Богу. Доктор хочет жить по этим законам и в городе.
Итак, можно утверждать, что мотив уподобления леса храму в творчестве Пастернака зарождается уже в первых поэтических опусах и постоянно используется в пастернаковской поэтике. Концепция «Природы-храма» формируется в художественном мировоззрении Пастернака через образное уподобление леса человечеству / людям, деревьев — святым или молящимся, соловья — церковному певчему, лесного шума — церковной мессе или литургии, леса — собору, Бога — леснику.
Примечания
* Работа выполнена в рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
-
1 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Слово, 2004. Т. 2. С. 161. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
2 святое место ( лат. ).
THE MOTIVE OF COMPARISON OF THE FOREST
WITH A TEMPLE IN THE POETICS
OF BORIS PASTERNAK
Список литературы Уподобление леса храму в поэтике Б. Пастернака
- Абрамова К. В. Стихотворение Б. Пастернака «В лесу» в контексте книги «Темы и вариации» и цикла «Нескучный сад»//Сибирский филологический журнал. -2012. -№ 4. -С. 66-72.
- Барыкин А. В. Стихотворение Б. Пастернака «Эдем»: феноменологическое прочтение//Альманах современной науки и образования. -Тамбов: Грамота, 2008. -№ 2 (9): в 3 ч. -Ч. I. -С. 32-35.
- Бёртнес Ю. Христианская тема в романе Пастернака «Доктор Живаго»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе ХVIII-ХХ веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 1. -С. 361-377.
- Бройтман С. Н. Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя -жизнь». -М.: Прогресс-Традиция, 2007. -608 с.
- Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. -М.: Сов. писатель, 1989. -222 с.
- Витт С. О пространстве леса в поэтике Пастернака//«Любовь пространства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. -М.: Языки славянской культуры, 2008. -С. 175-188.
- Гаспаров М. Л., Подгаецкая И. Ю. «Сестра моя -жизнь» Бориса Пастернака. Сверка понимания. -М.: РГГУ, 2008. -Вып. 55: Чтения по истории и теории культуры. -192 с.
- Гаспаров М. Л., Поливанов К. М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. -М.: РГГУ, 2005. -Вып. 47: Чтения по истории и теории культуры. -143 с.
- Данин Д. Бремя стыда: Книга без жанра. -М.: Московский рабочий, 1996. -384 с.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 ч. -М.: Христианская литература, 2000. -Ч. VI. -896 с.
- Есаулов И. А. Пасхальный архетип русской литературы и структура романа «Доктор Живаго»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. -Вып. 6: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 3. -С. 483-499.
- Иванова Н. Борис Пастернак: участь и предназначение. -СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2000. -344 с.
- Камедина Л. В. Творчество как преодоление зла в духовно-нравственном становлении личности. -М.: Директ-Медиа, 2014. -260 с.
- Малеваная Д. Книга стихов Б. Пастернака «Когда разгуляется»: итог творческого пути//Балтийский филологический курьер. -2009. -№ 7. -С. 70-84.
- Маркова Е. И. Храм или мастерская? Две тенденции в изображении природы//Верность человеческому: Нравственно-эстетическая и философская позиция Л. Леонова. -М., 1992. -C. 94-101.
- Мень А. История религии: В поисках пути, истины и жизни: в 7 т. -М.: Слово, 1991. -T. 1. -286 с.
- Михайлов О. Мироздание по Леониду Леонову. Личность и творчество. -М.: Сов. писатель, 1987. -272 с.
- Померанц Г. Неслыханная простота//Литературное обозрение. -1990. -№ 2. -С. 19-24.
- Степун Ф. Борис Леонидович Пастернак//Литературное обозрение. -1990. -№ 2. -С. 67-70.
- Сухих С. И. Два ключевых романа 50-х гг. ХХ в. («Русский лес» Л. Леонова и «Доктор Живаго» Б. Пастернака)//Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. -2012. -№ 4. -C. 385-392.
- Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. -СПб.: Академический проект, 2003. -462 с.
- Франк В. С. Водяной знак: Поэтическое мировоззрение Пастернака//Литературное обозрение. -1990. -№ 2. -С. 72-77.
- Химич В. В. Поэтика романов Леонида Леонова. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. -127 с.
- Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных образов в русской поэзии. -М.: Высшая школа, 1990. -304 с.