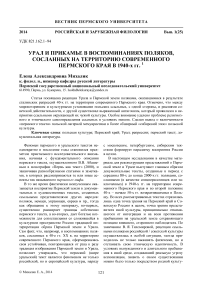Урал и Прикамье в воспоминаниях поляков, сосланных на территорию современного Пермского края в 1940-х гг
Автор: Михалик Елена Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рецепции Урала и Пермской земли поляками, оказавшимися в результате сталинских репрессий 40-х гг. на территории современного Пермского края. Отмечено, что между мировоззрением и культурными установками польских ссыльных, с одной стороны, и реалиями советской действительности, с другой существовал выраженный антагонизм, который проявлялся в неприятии ссыльными окружающей их чужой культуры. Особое внимание уделено проблеме религиозного и этнического самоопределения ссыльных в условиях неволи. Сделан вывод о включенности «пермского текста» польской лагерной мемуаристики в более обширный «сибирский эпос» польской культуры.
Польская культура, пермский край, урал, репрессии, пермский текст, документальная литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14729274
IDR: 14729274 | УДК: 821.162.1-94
Текст научной статьи Урал и Прикамье в воспоминаниях поляков, сосланных на территорию современного Пермского края в 1940-х гг
Феномен пермского и уральского текстов неоднократно в последние годы становился предметом пристального исследовательского внимания, начиная с фундаментального описания пермского текста, осуществленного В.В. Абашевым в монографии «Пермь как текст» (2000), и заканчивая разнообразными статьями и заметками, в которых рассматриваются те или иные аспекты так называемого пермского мифа .
В то же время фактически неизученным оказывается восприятие Пермской земли в документальных и художественных текстах, созданных ссыльными представителями других народов: поляков, немцев, украинцев, евреев и пр., тогда как обращение к этому материалу, во-первых, существенно расширяет границы собственно пермского текста, а во-вторых, дает богатые возможности для сопоставления со сложившейся в культурном пространстве России традицией интерпретации образа Пермской земли и Урала. Сам факт, что, например, в воспоминаниях поляков, сосланных в 40-е гг. ХХ в. на территорию современного Пермского края, сформировалась своя устойчивая, повторяющаяся от раза к разу традиция изображения Пермской земли и Урала, позволяет утверждать, что пермский (шире уральский) текст является феноменом не только российской, но и европейской культуры, наряду с московским, петербургским, сибирским текстами формирует парадигму восприятия России в целом.
В настоящем исследовании в качестве материала для реконструкции представлений о Пермской земле и Урале выступают главным образом документальные тексты, созданные в период с середины 80-х до конца 2000-х гг. поляками, сосланными (в качестве спецпереселенцев или заключенных) в 1940-х гг. на территорию современного Пермского края и во второй половине 40-х – начале 50-х гг. возвратившимися в Польшу. Во всех рассматриваемых текстах отразилась лишь одна точка зрения на Пермский край и Советскую Россию в целом, точка зрения представителя иной культуры, принципиально отказавшегося от интеграции и на всем протяжении пребывания на уральской земле сохраняющего позицию внешнего, стороннего наблюдателя. По замечанию В. Я. Тихомировой, рецепция ссыльными поляками российской / советской культуры осуществлялась в особой ситуации, «когда приходилось не только выживать физически, но и отстаивать свою этническую идентичность. В условиях вынужденного и длительного пребывания в иной среде, создававшей реальную угрозу ассимиляции, заявить о своем существовании можно было только посредством родной культу- ры – языка, традиций, памяти» [Тихомирова 2009: 234]. Очевидно, что восприятие россий-ских/советских реалий поляками, оставшимися на Урале, и их потомками выглядит иначе, свидетельства чему обнаруживаются в современных исследованиях, посвященных «пермским поля-кам»2.
Понимание специфики восприятия Пермской земли носителями польской культуры невозможно без некоторых уточнений. Так, важно отметить, что в сознании ссыльных поляков Урал и Пермская земля зачастую не выделяются из пространства «Сибирь», которое в польской традиции, во-первых, не тождественно реальной географической Сибири, а существенно шире: включает в себя Казахстан, Урал, и, во-вторых, выступает не только и не столько как географическое понятие, сколько как явление культурное, как совокупность разного рода негативно конна-татируемых смыслов: Сибирь – место ссылки и пленения, «ледяной ад», царство смерти и т.п.3 Например, мемуары Анны Шчепановской4 имеют подзаголовок «Мои сибирские воспомина-ния»5, хотя фактически автор никогда не бывала в Сибири, местом ее ссылки были Молотовская область и Коми-Пермяцкий округ. Точно из таких же соображений обширным воспоминаниям Юзефа Данеля6, который вместе с семьей был выслан на территорию современного Пермского края, предпослан эпиграф из посвященного сибирской ссылке стихотворения Кароля Балинь-ского, польского поэта XIX в., участника освободительного движения, который в возрасте 22 лет был сослан в т.н. Киргизскую (Тургайскую) степь на берег р. Ишим (совр. г. Есиль):
Pamiętasz Sybir? Tę ziemię przeklętą
Stokroć przeklętą, choć juz w niej nie gnije… 7
Несмотря на значительную географическую разделенность Перми и Есиля, для Ю. Данеля все пространство от Уральских гор до степей Казахстана воспринимается как единое целое, как бескрайняя огромность условной «Сибири», вот уже который век оказывающейся местом ссылки и гибели тысяч поляков. Красноречивое определение поэтом Сибири как «проклятой», «стократно проклятой земли», в полной мере применимо, по мнению Ю. Данеля, и к месту ссылки его семьи, т. е. к Уралу.
В целом образ уральской земли, который возникает на страницах рассматриваемых воспоминаний, укладывается в рамки уже сложившейся, на момент создания ссыльными своих текстов, традиции изображения российской ссылки. Так, одним из наиболее частых наименований Урала в текстах воспоминаний оказывается «nieludzka ziemia», что можно приблизительно перевести как «бесчеловечная земля» или «жестокая земля». Данное наименование происходит от названия книги воспоминаний Юзефа Чапского8, польского художника, писателя и общественного деятеля, который в 1939 г. был взят в плен войсками Красной Армии и отправлен в лагеря, расположенные не в Сибири, а на территории Украины и Северо-Западе России. Тем не менее данное им определение «nieludzka ziemia» оказалось чрезвычайно устойчивым и в данный момент функционирует как своего рода штамп или перифраза, служащая для обозначения советской ссылки и Советской России в целом. Подобное наименование встречается во многих исследуемых текстах.
Например, упоминание «бесчеловечной земли» возникает в письме Людвика Кожуха9, одного из бывших ссыльных, пребывавшего в Юр-линском районе Пермской (тогда Молотовской) области: «Сердечно благодарю за открытку и память о тех, кто познал столько страданий на этой бесчеловечной земле» [AW sygn. ZS 152]. Ю. Данель, начиная свои воспоминания, берет словосочетание «nieludzka ziemia» в кавычки, подчеркивая тем самым, что оно имеет характер цитаты, и вместе с тем присоединяется к этому определению, которое действительно оказывается наиболее точным и универсальным при создании образа советской ссылки, поскольку отражает не только индивидуальный, но и коллективный опыт пережитого плена и страданий. Для Ю. Данеля «бесчеловечной» оказывается земля, куда были сосланы его семья и тысячи других поляков, в двух планах. Первое и наиболее очевидное: «бесчеловечная земля» – это пространство, где тяжелейшие страдания поляками переживались буквально, непосредственно, где они умирали от голода, холода, болезней и невыносимых условий жизни. И вместе с тем «бесчеловечность земли» проявляется в том, что пребывание на ней приводило к перерождению, «обес-человечеванию» самих ссыльных, утрате ими традиционных моральных ценностей, а в ряде случаев и полной потере человеческого достоинства: «…часть испытаний остается неясной для тех, кого миновало пребывание “на бесчеловечной земле”, для тех, кто не принимал участия в процессе этой позорной дегуманизации, охватывающей всех ссыльных» [AW sygn. AW II/1916: 1].
Обозначение «nieludzka ziemia» появляется и в мемуарах С. Кулона «Z ziemi polskiej do Polski» («С польской земли в Польшу»), известного польского скульптора и резчика по дереву, сосланного со своей семьей в спецпоселение под Кудымкаром в 1940 г.10. Вторая часть его книги имеет следующее посвящение: «Моим младшим братьям Олику (21 день), Мечу (3,5 года), Казику (7 лет). Навсегда остались на бесчеловечной земле» [Kulon 2008: 73]. Вместе с тем в дальнейшем автор на страницах воспоминаний, размышляя над определением «nieludzka ziemia», находит эту «метафору» не слишком удачной, поскольку «бесчеловечной» во всех случаях оказывалась не земля, а «бесчеловечными» были люди, делавшие пребывание в ссылке таким невыносимым: «В последнее время об этой стране – Рае Человечества – пишется и говорится, что это «бесчеловечная земля». А чем виновата земля? Знаю, что это своеобразная поэтическая метафора. Это не земля, только “бесчеловечные люди”» [ibid.: 85].
Определение «nieludzka ziemia» появляется регулярно не только в документальных текстах, но и в художественных произведениях, посвященных депортациям. Например, в стихотворении «Na śmierć Generała Andersa» («На смерть генерала Андерса») Ф. Конарского, польского поэта, чей брат был сослан вглубь СССР, «nie-ludzka ziemia» выступает как обозначение всей советской ссылки, включающей лагеря на территории Сибири, Урала, казахских степей:
Pomódl się dziś za Tego, który dłońmi swymi Wyprowadził cię wtedy z tej nieludzkiej ziemi 11 [AW sygn. AW II/2674]
Написанное с большой буквы слово «Tego» («Того») и собственно упоминание «исхода из жестокой земли» отсылают к ветхозаветному сюжету о выведении Моисеем евреев из Египта, что придает фигуре умершего генерала Андерса особое величие и подчеркивает его спасительную для польского народа роль. Интересно, что параллели между вызволением из египетского плена и освобождением из советского заключения возникают не только в художественных произведениях, но и в научных текстах. Так, например, одна из статей, посвященных описанию массового ухода поляков в 1941 г. с территории СССР, носит знаменательное название «„Ku Ziemi Obiecanej” – exodus ludności polskiej z pół-nocy ZSRR jesienią 1941 roku» [Boćkowski 1998: 431], т. е. «„К обетованной земле…” – массовый уход польского населения с севера СССР осенью 1941 года». Взятая в кавычки и представляющая своего рода косвенную речь часть заглавия, призвана, по всей видимости, отразить восприятие освобождения из ссылки самими участниками этого освобождения. Таким образом, в сознании ссыльных существовала не только «бесчеловечная земля» – СССР, но и противопоставленная ей земля обетованная, Родина, Отчизна, куда поляки жаждали вернуться и о которой не переставали думать в ссылке. С большой патетикой гово- рится о любви к родине и постоянной тоске по ней в воспоминаниях Л. Кожуха, причем автор, рассказывая об имевших место событиях, то и дело прибегает к использованию формы множественного числа «мы», выражающей коллективный субъект говорения: «Не из одной груди вырвался вопль ужаса и отчаяния, что с нами будет, вокруг нас угрюмая тайга и лишь немного неба, которое было видно с поляны, и тихий вздох, обращенный к Богу с просьбой о милосердии к нашей Родине, откуда нас вырвал оккупант» [AW sygn. ZS 152: 3]. Это объясняется стремлением автора изобразить не только свой личный опыт пребывания в неволе, но и опыт множества других поляков, оказавшихся на чужбине, показать польских ссыльных как национальнокультурную общность, как единый народ, неотъемлемой частью которого автор себя ощущает.
В целом для текстов воспоминаний характерна очень четкая система противопоставлений «своего» (польского, любимого, желанного, спасительного) и «чужого» (российского / советского, ненавистного, губительного, жестокого). Можно сказать, что это центральное структурообразующее противопоставление всех исследованных текстов, противопоставление, вокруг которого строится «сюжет» большинства рассматриваемых нами воспоминаний ссыльных поляков. В работах В. Я. Тихомировой, посвященных исследованию польской лагерной литературы, отмечено, что оппозиция «свое–чужое» была одной из основополагающих и в текстах воспоминаний, созданных в 1940–50-е гг. [Тихомирова 2009: 234].
Российская (в широком смысле слова) действительность предстает ссыльным враждебной и чуждой, неприятие этой действительности фиксируется, например, в воспоминаниях Анны Шчепановской, которая пишет о привычке ссыльных поляков закрывать окна в бараках, несмотря на недовольство коменданта: «В бараке окна всегда были заслонены, потому что нам не было приятно смотреть на окружающий нас чужой мир» [Szczepanowska 2014: 12]. Бытовое движение закрывания окна приобретает здесь характер символического жеста: замыкания границы своего «польского пространства», на котором, насколько это было возможно, ссыльные старались вести привычное существование, отгораживание от окружающей российской / советской действительности, постоянно грозившей полякам уничтожением, причем не только физическим, но и культурным.
В связи с тем что Урал и Пермская земля воспринимаются в первую очередь как место пленения и страданий, негативные коннотации при их описании сохраняются на протяжении всего повествования. Точно так же, как и Сибирь, Урал в воспоминаниях ссыльных выступает как земля холода и смерти: «…а могил прибывало на этом лесном кладбище, умирали старые, умирали дети, но умирали также молодые в расцвете сил…» [AW sygn. ZS 152]. В этом фрагменте словосочетание «лесное кладбище» выступает не только в буквальном смысле как обозначение места захоронения, но и как метафорическое обозначение ссылки, превратившейся для многих и многих сотен поляков в огромную братскую могилу. Особенно устойчивыми оказываются сравнения ссылки с адом: «Надежда на то, что есть еще добрые люди на этой жестокой для нас, сирот, земле и на то, что, может быть, нам удастся пережить этот ад и когда-нибудь возвратиться в Польшу» [Kulon 2008: 68], «Из этого ада было невозможно бежать» [Korcz-Dziadosz 2002: 82], «Полностью понять их (переживания ссыльных. – прим. Е. М.) может человек, который пережил ад „Сибири”»[AW sygn. II/1916: 18], «Бог позволил, чтобы часть из нас пережила этот сталинский ад» [AW sygn. ZS 152]. «Это был, вероятно, последний круг Дантова ада, который расположен на земле, а имя его “Сибирь”» [AW sygn. II/1916: 22] 12.
В отличие от советской лагерной действительности, русская природа не вызывает у ссыльных поляков однозначного отторжения. Отдельные тексты воспоминаний содержат весьма живописные зарисовки Урала. Например, А. Шчепановская так описывает первую встречу с уральской землей: «Возвращаясь к первому дню путешествия, сначала еще были поля, покрытые толстым слоем снега, который сверкал на солнце, как если бы был посыпан маленькими бриллиантами и звездочками. После нескольких часов нашего путешествия нашим глазам открылся прекрасный девственный лес, и потом уже ежедневно был тот же самый пейзаж: леса и леса» [Szczepanowska 2014: 7]. Владислав Корч13 также обращает внимание на экзотическую красоту уральских лесов: «На небольшом расстоянии от лагеря расстилалась могучая тайга. Замечательный лес, который по огромности нельзя сравнить ни с одним европейским лесом. Хотя в своей тяжелой ситуации я был далек от восхищения красотой дикой природой, я не мог не видеть завораживающего очарования чудесной растительности, тесно связанной с высокоствольным лесом. Интенсивные краски диких цветов били в глаза своей первобытной красотой» [Korcz-Dziadosz 2002: 82].
В то же время, даже восхищаясь красотой уральской природы, поляки подчеркивают ее уг- рожающую стихийную сущность. Так, в воспоминаниях В. Корча при описании снежного бурана, которым Урал встретил эшелон польских заключенных, появляется столь характерное для текстов, созданных ссыльными, определение «адский»: «За белой пеленой, вращающейся на адском вихре, видимости не было никакой» [ibid.: 70]
С точки зрения Корча, одной из главных черт уральской и, шире, русской природы оказывается ее дикость, неукротимость, само слово «дикий» становится в его воспоминаниях постоянной характеристикой окружающего мира: «Лишь через несколько дней из разговоров с находившимися тут дольше украинцами я сориентировался, что нахожусь около 250 км севернее Перми в совершенно дикой и безлюдной местности»[ibid.: 82], «Вокруг были только деревья и темная, грустная и волнующая дикая река» [ibid.: 81], «Интенсивные краски диких цветов били в глаза своей первобытной красотой» [ibid.: 82].
Значимо, что определение «дикий» используется на страницах воспоминаний ссыльных не только при создании образов природы, но и для характеристики местных жителей: «Нужно начать думать, какой будет наша жизнь здесь, среди девственных лесов и полудиких людей, которые тоже здесь жили» [Szczepanowska 2014: 8], «Летом в бараки начали приходить местные дети из Галашора, между прочим, коми-пермяки, русские, евреи и т. п. Сначала с осторожностью и страхом, неуверенно, а позднее, как это бывает у детей, с доверчивостью, они были очень открытые, может быть более “дикие”» [AW sygn. AW II/1916: 18]. И здесь можно говорить о появлении еще одной важной смысловой оппозиции «культурное (цивилизованное) – дикое (варварское)», являющейся частным случаем центральной для текстов воспоминаний оппозиции «свое – чужое». Ссыльные поляки, оказавшиеся в условиях советской/российской действительности, воспринимают эту действительность не только как враждебную и угрожающую, но и как культурно отсталую, практически варварскую (не случайно Корч называет красоту таежных растений «первобытной»), тогда как самих себя поляки считают носителями традиционных для западноевропейской цивилизации культурных норм и ценностей. Россия, царская или советская, в сознании ссыльных поляков к ментальному пространству Европы не относится, на что в своих исследованиях указывает В. Я. Тихомирова [Тихомирова 2002: 287; 2009: 236]. В воспоминаниях поляков, переживших уральскую ссылку, также можно встретить противопоставление «европейской» Польши и «азиатской» России. Например, Кри- стина Ожеховская-Юзьвенко14, описывая пытки, которым подвергался ее отец в застенках НКВД, отмечала их «азиатскую» изощренность [AW sygn. AW II/679: 6]; и в этом контексте, конечно, определение «азиатский» имеет выраженную негативную коннотацию.
Еще одним пунктом размежевания между традиционной польской культурой, носителями которой были ссыльные, и культурой Советской России было отношение к религии. Католическая вера являлась для польских ссыльных одной из неоспоримых ценностей, ее особая роль в судьбах ссыльных отмечена многими исследователями; например, Катажина Кощч указывает, что принадлежность к католической вере во время советской ссылки выступала как одно из ключевых условий сохранения поляками своей национальной и культурной идентичности [Kość 2008: 103]. В то же время исследователь отмечает, что в условиях ссылки проблема русификации и атеизации поляков вставала очень остро, в особенности это касалось детей: «Большую часть дня дети были предоставлены сами себе, вследствие чего быстро заводили знакомства с местными, у которых учились русскому языку. Все чаще они использовали его и в ежедневных контактах, поскольку не хотели отличаться от своих сверстников, а кроме того, русский язык становился для них естественным средством коммуникации и восприятия реальности. Угроза атеизации и русификации становилась особенно реальной в случае обучения в российской школе» [ibid.: 141].
По мере возможности в кругу семьи родители старались воспроизводить традиционные религиозные обряды, чтобы не допустить окончательного «осовечивания» своих детей. Например, Ю. Данель, посещавший ребенком советский детский сад и подвергавшийся там серьезному «воспитательному» воздействию, замечает: «Однако определяющее влияние на формирование моих взглядов на жизнь, веру в Бога, мир и человека имели мои родители, которые вовремя реагировали, ежедневно активно участвуя в моем воспитании» [AW sygn. AW II/1916: 56]. Он же констатирует, что в критической ситуации полного нравственного опустошения, в которой оказались многие его сородичи, одним из немногих источников душевных сил были вера и молитва: «Важную роль, как подчеркивали в позднейших разговорах мои родители, играла вера в Бога и сила молитвы. В этом месте я хотел бы вспомнить, что моя мать привезла на Урал довольно большую, до 70 см, фигурку Божьей Матери, которая вместе с нашей семьей «отбыла» всю ссылку и возвратилась в Польшу. До сих пор она сохраняется как семейная реликвия, в третьем уже поколении. Перед ней на Урале, в Галашоре, преклоняли колени и молились ссыльные…» [ibid.: 25].
В исследовании К. Кощч в качестве одной из особенностей религиозного сознания поляков, пребывавших в ссылке, названа сопровождавшая их вера в чудеса [Kość 2008: 108, 109]. В воспоминаниях поляков, сосланных на территорию современного Пермского края, также встречается сюжет «о чудесах, совершенных молитвой». В частности, Ю. Данель упоминает в своих записях о страшном пожаре, возникшем летом на торфяниках и грозившем уничтожением целому лагерю. Пожар этот никак не удавалось потушить, и люди готовы были в любой момент сняться с места, когда внезапно произошло «чудо»: сменился ветер, пошел дождь и лагерь со всеми его обитателями остался невредимым. «Чудо» это, как пишет Ю. Данель, «повсеместно приписывалось полякам», которые, якобы, «вымолили у своего Бога перемену погоды» [AW sygn. AW II/1916: 20]. Здесь любопытным является факт, что «чудесный» характер имевшего место природного явления признавали не только сами ссыльные, но и местное население. Подобная же вера местного населения в особую божественную опеку поляков фиксируется другими источниками [Kość 2008: 107].
Важное место в воспоминаниях ссыльных занимает описание празднования в условиях ссылки традиционных польских праздников, в первую очередь Рождества и Пасхи. Следует заметить, что сюжет «празднования польского праздника в российской ссылке» еще в XIX в. становился предметом художественного осмысления. Можно утверждать, что ко времени написания бывшими ссыльными своих воспоминаний определенная традиция изображения такого рода событий уже сложилась, и связь с ней обнаруживается при анализе текстов воспоминаний. В первую очередь здесь нужно назвать картину выдающегося польского художника-модерниста Яцка Мальчевского «Сочельник в Сибири» (1892), на которой представлена группа мужчин, сидящих за чрезвычайно скромно, если не сказать бедно, накрытым столом, единственным украшением которого является самовар. Из угощений, которых по традиции на рождественском столе должно быть двенадцать, присутствует лишь кусок черного хлеба. Участники торжественного ужина погружены в размышления, на их лицах печаль и сосредоточенность, можно предположить, что в этот момент они вспоминают Польшу, свои дома и семьи, которые они покинули, вероятнее всего, навсегда. Известный польский писатель рубежа XIX–XX вв., лауреат Нобелевской премии по литературе, Станислав Реймонт в своей дебютной новелле «Рождественский сочельник» (1892) также обратился к данному сюжету, с большой художественной выразительностью передав наполнявшее героя, оказавшегося «под чужим негостеприимным небом» [цит. по: Biała 2010: 479], щемящее чувство тоски по Родине, к которой он в этот праздничный, а вместе с тем очень печальный день устремлен всей своей душой.
Для поляков, сосланных в 40-е гг. ХХ в. на Урал, возможность провести праздничный день в соответствии с закрепленными в культуре обычаями, воспроизвести сложившийся праздничный ритуал воспринимается как один из основных способов напомнить самим себе о собственной национальной идентичности, укрепить ослабевшие связи с далекой и желанной родиной: «Хоть и в тайге, но хотелось нам этот великий день (праздник Рождества. – прим. Е. М. ) почтить отдыхом, мы сидели у костра, испекли кусочек хлеба над костром, поели, обменялись праздничными пожеланиями, и слезы потекли по нашим щекам, и тихая молитва к Богу, чтобы освободил нас с той каторги, которую приготовил нам Сталин, Берия и Молотов» [AW sygn. ZS 152: 5]. Часто ссыльные отказывали себе в самом необходимом, чтобы сохранить хотя бы немного еды для праздничного стола. Например, Бронислава Паствиньская15 вспоминает: «Мы всегда были голодны, но раз в год мы наедались до „сыта”, – в Сочельник, то есть не отходили от стола голодными. Это было результатом серьезного ограничения наших и без того скудных продовольственных пайков <…> Сэкономленные кругляшки замороженного молока хранили для Сочельника и из этого готовили праздничные блюда <…> Экономили также и хлеб, а точнее хлебные карточки, которые выменивали на муку (ржаную грубого помола). Из этой муки делали лапшу, которая вместе с молоком из кругляшков составляла рождественское угощение» [AW sygn. ZS 1133: 25–26].
В свою очередь, невозможность празднования усиливало чувство горечи, ощущение оторванности от всего привычного и любимого, подчеркивало трагизм положения ссыльных: «Польские праздники в России не чтили» [AW sygn. ZS 1133: 26], «Были пасхальные праздники, которые мы проплакали, потому что яйца никто в глаза не видел» [Szczepanowska 2014: 12], «Я помню такое особенно праздничное воскресение, ознаменовавшее Пасхальные праздники. У обитателей бараков не было яиц, и со слезами на глазах они делились друг с другом кусочком черного хлеба» [Kulon 2008: 39].
Празднование традиционных праздников в условиях лагеря нередко оказывалось сопряжено со значительным риском, поскольку официальная власть в лице лагерного начальства всячески препятствовала отправлению ссыльными религиозных обрядов: «Так проходит время праздника Рождества Христова, первого в ссылке, мы идем в лес, потому что праздновать нельзя…» [AW sygn. ZS 152: 5], «Верю матери, которая говорила, что сотрудники НКВД и функционеры приходили в бараки, особенно тогда, когда поляки молились и громко пели по-польски. Раздавался приказ: „Запрещается петь и молиться по-польски”» [AW sygn. AW II/1916: 22], «Громко молиться и петь религиозные песни было нельзя. Когда кто-то из надзирателей это слышал, тотчас же являлся сотрудник НКВД и запрещал» [AW sygn. ZS 1077: 4].
Традиционным польским праздникам по принципу подлинное/фальшивое противопоставляются в воспоминаниях ссыльных официальные советские праздники, в частности, 1 Мая, Новый год и др. Так, в воспоминаниях С. Кулона весьма сатирически представлено празднование Нового года в советском детском доме (в деревне Пеш-нигорт, в семи километрах от Кудымкара): «Во время празднования великих дат питание было лучше, паек более разнообразный. Тогда мы получали во время еды конфеты , на ужин вместо половины – целый кусок хлеба, а вечером после ужина нас собирали перед большой елкой, которая стояла в клубе. Мы читали стихи и пели песню в честь Великого Вождя, Сердечного Друга и Отца всех детей – Иосифа Виссарионовича Сталина. После артистической части из-за елки возникал Дед Мороз с мешком подарков, мы становились в очередь, а Дед Мороз одаривал нас обычно печеньем» [Kulon 2008: 85].
Значимо, что описание празднования советского Нового года следует за фрагментом, в котором автор рассказывает о смерти от туберкулеза своего брата Казика, в полном одиночестве окончившего свои дни в больнице Кудымкара. В этом контексте определение Сталина как Сердечного Друга и Отца всех детей звучит с особенным горьким сарказмом, так же как и именование советских праздников «великими датами».
Подводя итоги, отметим, что в целом воспоминания поляков, сосланных на территорию современного Пермского края в 1940-х гг., с полным основанием можно отнести к т. н. сибирскому эпосу польской литературы. Пермская земля и Урал изображаются в текстах воспоминаний вполне традиционно для данной разно- видности мемуаристики; пространство, на котором оказываются ссыльные, независимо от того, действительно ли это Сибирь или все-таки Урал, воспринимается как чуждое, угрожающее, враждебное, оно ассоциируется с адом и братской могилой; это пространство страданий и смерти, восприятие которого дополнительно «отягощено» исторической памятью, негативным опытом предыдущих поколений поляков.
В то же время в отдельных источниках обнаруживается стремление ссыльных зафиксировать индивидуальные черты именно Пермской земли. Так, в воспоминаниях С. Кулона приводится своего рода «городская легенда» о якобы существовавшей под Пермью гигантской оружейной фабрике, на которой выпускались катюши: «Старшие говорили, что у Молотова есть два уровня: что под городом есть еще один – фабрика, где будто бы производятся знаменитые катюши, и тем, которые там работают, запрещается выходить наружу, чтобы чужая империалистическая разведка не выкрала секрета их конструкции» [Kulon 2008: 91]. А в мемуарах В. Корча и Ю. Данеля содержатся упоминания «каторжной» составляющей истории Перми. Ю. Данель вспоминает, что в записках его отца встречается название «тракт каторжников», который позднее был переименован в улицу Маркса [AW sygn. AW II/1916: 62]. В.Корч также указывает на «привычность» вида колонны осужденных для городского пейзажа и полное равнодушие этому явлению местных жителей [Korcz-Dziadosz 2002: 81].
Помимо Перми, в рассмотренных текстах встречаются упоминания Кудымкара, Соликамска, Кунгура, Юрлы, Краснокамска, Егвы, а мемуары Б. Паствиньской содержат подробные описания труда ссыльных в военные годы на Майкорском металлургическом заводе. Кроме того, в текстах В. Корча и Л. Тшнадель16 много внимания уделяется жизни заключенных в лагерях Соликамска: бытовым условиям, «лагерным порядкам», жаргону, а также отношениям между представителями разных национальностей. Таким образом, в «пермском тексте» польской лагерной литературы, с одной стороны, превалируют стереотипные представления о Советской России и советской ссылке, а с другой – встречаются интересные этнографические зарисовки, в которых отразился облик Прикамья и Урала 40–50-х гг. ХХ в.
URAL AND THE KAMA REGION IN THE RECOLLECTIONS
Engineer of Russian Literature Department
Perm State National Research University
Список литературы Урал и Прикамье в воспоминаниях поляков, сосланных на территорию современного Пермского края в 1940-х гг
- Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: ОАО ИПК «Звезда», 2000. 496 с
- Абашев В. В. Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики. Пермь, 2012. 140 с
- Поляки в Пермском крае: Очерки истории и этнографии/науч. ред. А. В. Черных. СПб.: Маматов, 2009. 285 c
- Михалик Е. А. Уральская земля в судьбе и творчестве Станислава Кулона (на материале книги воспоминаний «Z ziemi polskiej do Polski»)//Поляки в Сибири. Поляки о Сибири: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Томск, 3-5 июня 2012 г.). Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2012. С. 191-200
- Тихомирова В. Я. Проявление национального самосознания в польской лагерной прозе (к проблеме этнических стереотипов)//Россия -Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М.: Индрик, 2002. С. 282-291
- Тихомирова В. Я. Русская/советская культура в польском восприятии: интерпретация лагерной прозы//Русская культура в польском сознании: сб. ст. польских и российских исследований. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2009. С. 233-244
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Józefa Daniela Sygn. AW II/1916
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Feliksa Konarskiego AW II/2674
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Ludwika Kożucha. Sygn ZS 152
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Walerii Mikszy. Sygn. ZS 1077
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko. Sygn. AW II/679
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Bronisławy Pastwińskiej. Sygn. ZS1133
- Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta wspomnienia Leokadii Trznadel. Sygn. AW I/833
- Biała A. Wigilia na Syberii//Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk. ParkEdukacja, Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa; Bielsko-Biała, 2010. S. 479-482
- Boćkowski D. "Ku ziemi obiecanej" -exodus ludności polskiej z północy ZSRR jesienią 1941 roku//Syberia w historii i kulturze narodu polskiego/pod red. A.Kruczyńskiego. Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek Badań Wschodnich i Kathedra Etnologii Wyższe Seminarium Duchowne Księźy Salwatorianów Stowarzyszenie “Współnota Polska”.Wrocław, 1998. S. 431-444
- Ciesielski S. Syberia w oczach polskich zesłańców z lat II wojny światowej//Syberia w historii i kulturze narodu polskiego/pod red. A.Kruczyńskiego. Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek Badań Wschodnich i Kathedra Etnologii Wyższe Seminarium Duchowne Księźy Salwatorianów Stowarzyszenie „Współnota Polska”. Wrocław, 1998. S. 383-397
- Korcz-Dziadosz J. Życie z sensem. Zielona Góra: Wyd. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2002. 168 s
- Kość K. Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmerci w relacjach polskich zesłańców w ZSSR (w latach 1940-1946). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. 274 s
- Kulon S. Z ziemi polskiej do Polski. Wspomnienia 1939-1958/Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, 2008. 372 s
- Orzechowska-Juzwenko K. Dlaczego? Wspomnienia syberyjskie i inne. Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2011. 132 s
- Szczepanowska A. Wyrwana z normalnośсi [online] http://www.zlotystok.pl/asp/pliki/pobierz/wspomnienia_z_syberi_poprawianw_03_06_2011.pdf (дата обращения: 10.03.2014)