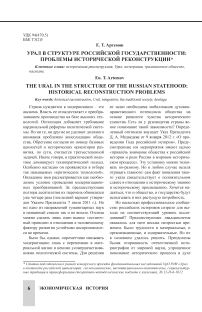Урал в структуре российской государственности: проблемы исторической реконструкции
Автор: Артемов Евгений Тимофеевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Индустриальная история
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновываются подходы к созданию труда «Урал в российской истории». Особое внимание уделяется теоретико-методологическим аспектам исследования. Предлагается периодизация истории Урала с учетом изменения его места в структуре российской государственности и общества. Отмечается, что регион постепенно утрачивал такое качество, как периферийность, сближаясь по основополагающим характеристикам с цивилизационно-страновым «ядром».
Историческая реконструкция, урал, интеграция, традиционное общество, наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/14723628
IDR: 14723628 | УДК: 94(470.5)
Текст научной статьи Урал в структуре российской государственности: проблемы исторической реконструкции
Страна нуждается в модернизации – это аксиома. Власть ее отождествляет с преобразованием производства на базе высоких технологий. Оппозиция добавляет требование кардинальной реформы политической системы. Но ни те, ни другие не уделяют должного внимания проблемам консолидации общества. Обретение согласия по поводу базовых ценностей и исторических ориентиров развития, по сути, считается третьестепенной задачей. Иначе говоря, в практической политике доминирует технократический подход. Особенно наглядно он проявляется в отборе так называемых «критических технологий». Овладение ими рассматривается как необходимое условие проведения модернизационных преобразований. За предшествующие полтора десятилетия их перечень обновлялся уже четыре раза (последний вариант утвержден Указом Президента 7 июля 2011 г.). Но ни одно из направлений гуманитарных наук в названный список так и не вошло. Отсюда можно сделать лишь один вывод: «остаточный принцип» в отношении к человеческому фактору развития устойчиво воспроизводится во времени.
Было бы, однако, опрометчиво связывать модернизацию лишь с переменами в материальной жизни и некими усовершенствованиями политической системы. Для решения ее задач необходима мобилизация духовнонравственного потенциала общества на основе развитого чувства исторического единства. Есть ли у руководства страны ясное понимание такой зависимости? Определенный оптимизм внушает Указ Президента Д. А. Медведева от 9 января 2012 г. «О проведении Года российской истории». Предусмотренные им мероприятия имеют целью «привлечь внимание общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе». Эту установку можно толковать по-разному. Но в любом случае нельзя отрицать главного: сам факт появления такого указа свидетельствует о положительном сдвиге в отношении к историческому знанию и историческому просвещению. Хочется надеяться, что и общество, и государство будут испытывать в них растущую потребность.
Но насколько профессиональное сообщество российских историков созрело для выхода на соответствующий уровень исследований? Предшествующее двадцатилетие оказалось для него весьма непростым временем. Были трудности и материальные, и организационные, и содержательные. Но их в основном удалось решить. Преодолены былая оторванность отечественной историографии от мировой науки, упрощенное понимание исторического процесса в духе экономического детерминизма, игнорирование многообразия исторической реальности. Серьезно расширилась источниковая база исследований. Активно осваиваются современные методы поиска и обобщения исторической информации. Все это позволило выполнить целый ряд исследований, получивших широкое признание. В частности, в последние годы весомые результаты получены уральскими учеными [1]. Хотя, конечно, историкам предстоит еще много сделать, чтобы результаты их изысканий в полной мере отвечали общественным ожиданиям.
Какие исторические проблемы сегодня представляются наиболее актуальными? На это трудно ответить однозначно. Известно множество примеров, когда, казалось бы, «неактуальные» темы вдруг становились злободневными. Не хотелось в данном случае попасть в такую ситуацию. Тем не менее в общей массе исторической проблематики всегда существовали и существуют «непреходящие» сюжеты. Прежде всего они связаны с глобальным позиционированием российского общества и государства. Понятно, что это некий итог предшествующего развития. Оно создает так называемый «эффект колеи», в который должны «вписываться» любые реальные поведенческие стратегии. Но для определения границы возможного нужно иметь ясность в следующих вопросах:
– чем была Россия в прошлом и чем является сегодня: неразделимым целым или арифметической суммой регионов, культур, этносов?
– какова генетическая матрица российского общества, в чем заключается и чем определяется специфика исторического развития российской государственности?
– как российская история соотносится с другими вариантами мирового цивилизационного процесса?
Конечно, эти вопросы всегда волновали историков. В той или иной степени они ставятся и в современных трудах. Решать их пытаются преимущественно в рамках монографических исследований. Однако как ни важна проработка отдельных событий и процессов, она не отменяет необходимости глобальных исторических реконструкций. А это можно сделать лишь посредством подготовки обобщающих трудов. Правда есть мнение, что их время прошло. В отсутствие «единственно верных» теоретико-методологических оснований нельзя органично совместить сюжеты, написанные авторами, придерживающимися различных мировоззренческих позиций. Но в целом профессиональное сообщество историков склоняется к иной точке зрения. Тому есть по крайней мере две причины.
С одной стороны, трудно переоценить роль обобщающих трудов в упрочении общероссийского самосознания, национальной и региональной идентичности. Они незаменимы, когда, например, речь идет о совершенствовании программ преподавания истории в школах и вузах. С другой стороны, такие обобщения важны для самой науки. Широкая историческая панорама дает импульс дальнейшему научному поиску. Неслучайно идея создания подобных трудов получает все большую поддержку.
На общероссийском уровне полным ходом идет подготовка шеститомной «Всемирной истории». Уже издан ее первый том – «Древний мир». Завершить серию планируется в 2014 г. Еще один пример. В мае прошлого года Отделение историко-филологических наук РАН одобрило инициативу Института российской истории о подготовке многотомной «Истории России». Сейчас обсуждаются подходы к реализации этого проекта. Одновременно прорабатывается идея создания макрорегиональных историй. В этом направлении, пожалуй, больше всего продвинулись в Сибири. Там уже более 40 лет назад был издан соответствующий пятитомник, получивший Государственную премию. Он и по сей день не утратил научной ценности. Но время ставит новые вопросы и рождает новые идеи, приносит новые открытия, нуждающиеся в обобщении. И сегодня на выходе аналогичный – на этот раз трехтомный – труд, который готовит Сибирское отделение РАН.
К сожалению, на Урале нет такого задела. Неоднократные попытки подготовки обоб- щающей академической истории региона не удалось довести до логического завершения. Однако эта идея всегда считалась актуальной. Теперь же, на новом этапе развития исторической науки, есть все основания считать необходимым и возможным ее практическую реализацию. С соответствующей инициативой выступил Институт истории и археологии Уральского отделения РАН. Естественно, что здесь мы сразу же столкнулись с рядом принципиальных проблем. Прежде всего нужно было определиться с вектором исследования. Традиционно региональная история ориентируется на описание всех сколько-нибудь значимых событий. Подобный подход реализуется и при подготовке новой версии «Истории Сибири». Его достоинство очевидно: конкретность и максимально возможная полнота освещения прошлого. Но попытки «объять необъятное» ведут к тому, что региональная история превращается в некий набор слабо связанных между собой сюжетов. Кроме того, внимание акцентируется на региональных процессах, что затрудняет понимание того, как они вписывались в общероссийскую динамику.
Учитывая эти два обстоятельства, мы решили модифицировать традиционный подход. Вместо суммирования отдельных многочисленных (пусть и значимых) эпизодов попытаться увидеть в них проявление закономерностей, которые «привязывают» Урал к единому потоку российской истории. Нам представляется принципиально важным «вписать» историю региона в общестрановой и даже мировой контекст, показать его роль в становлении и развитии российской государственности и общества. Думается, что взгляд на Урал как часть страны и на страну как «вместилище» Урала дает возможность глубже понять своеобразие истории России.
Выбор такого ракурса исследований отнюдь не означает подчинение «живой плоти» истории умозрительной схеме. Концептуальный «каркас» свершившихся событий должен не «пристраиваться» извне, а выявляться в их глубинной сути. Любые исторические объяснения могут строиться лишь на конкретном материале. Поэтому непременным условием получения достоверных научных обобщений является реконструкция наиболее значимых событий прошлого, воссоздание подробностей и специфики повседневной жизни края, прослеживание судеб известных уральцев и т. п. Мы хотим, чтобы, обратившись к такому исследованию, читатель попадал не в безжизненную область логических абстракций. Ему нужно предоставить возможность погрузиться в живую реальность, ощутить атмосферу времени, его вызовы и посулы, императивы и альтернативы, противоречивые тенденции и неизбежность выбора. Но богатство исторических деталей не должно заслонять внутреннюю логику событий. Их задача заключается в другом: сделать ощутимее и убедительнее реальную связь времен. Рассчитываем, что декларируемый нами подход не только прояснит место Урала в общероссийской истории, но и позволит аргументировать наше видение путей решения следующих фундаментальных научных проблем:
– как соотносятся региональное, страновое и глобальное измерения истории?
– почему важно интегрировать исследование процессов, протекавших на макро- и микроуровне?
– какова роль человеческого фактора в исторической динамике?
Первая проблема на первый взгляд кажется тривиальной: очевидно, что между региональным, страновым и глобальным измерениями истории существует устойчивая связь. Но как она реализуется на практике – предмет многочисленных дискуссий. Кто-то акцентирует внимание на экспансии сильного государства на сопредельные и отдаленные территории; для кого-то более важным кажется тяготение слабых социальнотерриториальных образований к сильным соседям. Несомненно, любой из вариантов можно подкрепить примерами из реальной истории. Но единой для всех случаев формулы взаимосвязи региональных, страновых и глобальных процессов, видимо, не существует. Однако на концептуальном уровне целесообразно использовать проверенные на прак- тике модели. Речь, в частности, идет о так называемом центр-периферийном подходе. Сегодня он достаточно широко применяется политологами и экономистами для характеристики взаимозависимости между странами и регионами. Думается, что полученные ими наработки применимы и в исторических проекциях. В нашем случае этот подход, с одной стороны, позволяет рассматривать уральское региональное сообщество («периферию» или «полупериферию») как нечто производное от общероссийских характеристик. С другой – как целостное образование, активно формирующее институциональнополитический, социально-экономический и культурно-символический ландшафт страны («центра»).
Особо подчеркнем, что случай с Уралом не исключительный в отечественной истории: по этим законам веками складывалось наше государство. Подтверждение тому можно найти на всех этапах российской истории. Взять хотя бы время становления российской цивилизации, XV–XVII вв. За каких-то полтора столетия полунезависимое Московское государство претерпело радикальные преобразования – превратилось, по выражению Ф. Броделя и И. Валлерстайна, в евразийскую «мир-экономику» или «мир-империю» [2, с. 16–17]. Ключевую роль здесь сыграло присоединение бескрайних территорий, находившихся к востоку от его исторического ядра. Стоит только добавить, что форпостом восточного сдвига российской цивилизации являлся Урал.
Освоение необъятных пространств сказалось на социально-институциональной организации российского общества, его хозяйственной и политической жизни. Оно наложило отпечаток и на менталитет русского этноса. Его отличительными чертами часто называют слабую чувствительность к расстояниям и границам, отсутствие должного стремления к обустройству места своего проживания и т. п. Отсюда порой делаются радикальные выводы. Так, известные экономгео-графы А. Трейвиш и В. Шупер утверждают: «…если бы за Уралом плескался океан, то, скорее всего, Россия уже давно была бы полноправным членом сообщества цивилизованных стран» [4, с. 22]. Эти исследователи не одиноки в своих оценках. Можно, конечно, спорить о неразумной или оправданной затрате «созидательной энергии народа» на присоединение все новых территорий. Но главное заключается в другом. Без Урала и Сибири Россия не была бы Россией. Она бы называлась как-то иначе, может быть, Московией.
Вторая проблема, требующая решения, – это интеграция макро- и микроистории. Нельзя ограничить исследования лишь макроуровнем (страной, регионом). Конечно, существуют магистральные тенденции мирового развития. В качестве примера можно назвать колонизацию, индустриализацию, урбанизацию и т. д. Эти процессы наблюдались и наблюдаются повсюду в мире. Многие их сущностные характеристики идентичны. Но уже на уровне отдельных стран имеются важные различия. Западная Европа шла одним путем, Япония – другим, Россия – третьим и т. д. Были и региональные особенности. Так, создание индустриальной базы на Урале проходило по иному сценарию, чем на Юге России. Однако страновой и региональной спецификой дело не ограничивается. Думать так – значит, упрощать наши представления о прошлом. На местах в каждый конкретный исторический момент глобальные процессы могли приобретать самые разнообразные конфигурации, самые неожиданные динамики. Они вариативно воспринимались и отражались на поведении отдельных социальных слоев, этнических групп, локальных сообществ.
В качестве примера можно сослаться на социальные аспекты процесса капиталистической индустриализации. В классическом варианте она предполагает формирование класса наемных работников, живущих исключительно за счет продажи своей рабочей силы. Но в горнозаводской промышленности Урала реализовалась иная модель. Предприниматели в избытке имели такой ресурс, как земля, но испытывали недостаток обо- ротных средств. Поэтому вместо полноценной заработной платы они старались привязать рабочую силу к производству посредством земельного надела. Такая система хозяйствования формировала особый образ жизни работников, способствовала консервации их полукрестьянского менталитета. Этим жители многочисленных заводских поселений в уральской глубинке заметно отличались от своих собратьев, занятых на капиталистических предприятиях того же Екатеринбурга. Подобную специфику нельзя уловить, ограничиваясь исследованиями макропроцессов. Они могут строиться лишь на основании микроисторических реконструкций. А интеграция обоих подходов – необходимое условие воссоздания исторической реальности как многопланового, многомерного процесса.
Третья проблема заключается в адекватной оценке роли человеческого фактора в исторической динамике. Нередко история трактуется как объективный процесс, обусловленный действием универсальных, всевластных анонимных законов. Достаточно вспомнить известный гегелевский постулат: «Все действительное разумно, все разумное действительно». Между тем нельзя забывать, что историческая реальность формируется конкретными людьми, наделенными разумом, свободой воли, возможностью выбора. Одни из них поддерживают новации, другие отстаивают устоявшиеся институты и ценности, но и те и другие преломляют глобальные процессы через призму личных и групповых интересов.
Особенно возрастает роль человеческого выбора на крутых поворотах истории. Можно привести множество примеров решающего воздействия отдельных личностей и групп на трансформацию социальных порядков. Многие особенности экономической жизни определялись конкретными личностями. В частности, трудно переоценить вклад В. де Генина и В. Н. Татищева в промышленное освоение Урала в первой половине XVIII в. Целая эпоха в истории региона связана с именем В. А. Глинки, служившего во второй трети XIX в. начальником горных за- водов края. Неслучайно его согласно преданиям именовали «царем и богом уральского хребта». И в советское время личностный фактор играл выдающуюся роль во всех сферах общественной жизни. Партийные лидеры (тот же Б. Н. Ельцин «вырос» на партийной работе), «генералы индустрии» (Б. Г. Музруков, А. П. Завенягин, Н. И. Рыжков и др.) сыграли роль в истории края не только тем, что исполняли функции, соответствующие занимаемым ими высоким должностям: их должности оказались особенно значимыми благодаря крупным характерам этих деятелей. Или взять академическую науку региона: очевидно, что ее плодотворное развитие состоялось во многом благодаря деятельности выдающихся ученых, основателей и руководителей научных школ.
Вместе с тем не следует и переоценивать значение субъективного фактора. Чем чревата такая переоценка, поясню хотя бы одним примером. В середине прошлого десятилетия наш институт готовил «Уральскую историческую энциклопедию». Статьи принимались на конкурсной основе. И вот в редколлегию от одного известного исследователя поступила словарная статья об И. В. Сталине. Начиналась она стандартно: И. В. Сталин, партийный и государственный деятель, родился тогда-то и там-то, в такой-то семье. Затем следовал пассаж: «И. В. Сталин с детства отличался злобным характером», а из этой посылки выводились чуть ли не все драматические события 30–50-х гг. прошлого века в СССР и в уральском регионе. Это, конечно, курьезный случай. Но подобные интерпретации исторических событий встречаются сплошь и рядом. К науке они, разумеется, не имеют отношения, а приведенный пример показывает, насколько необходим взвешенный подход к оценке человеческого фактора в историческом процессе. Однако если не принимать его во внимание, то трудно понять мотивацию индивидуальных и коллективных действий, определивших вектор развития региона и страны в целом.
Учитывая рассмотренные теоретикометодологические подходы, мы сформули- ровали гипотезу об изменении места и роли Урала в развитии страны. Поскольку этот процесс развивался во времени, его важнейшей характеристикой является хронологическая разметка, или периодизация. В идеале она строится на основании анализа всей совокупности факторов исторического развития. Но на практике в их числе в соответствии с замыслом исследования выделяются главные. В нашем случае это место региона в территориальном разделении труда, характер социально-демографических процессов, политико-правовые и административные механизмы регионального управления, принципы организации и самоорганизации локальных сообществ, специфика культурного ландшафта и идентичности населения. В соответствии с этими критериями уже в предварительном порядке можно сделать вывод, что Урал в истории России появился как территория, безусловно, периферийная. Но по мере его освоения выходцами из Центральной России он претерпевает существенные изменения и в технико-экономическом, и в социальноинституциональном плане. Одновременно увеличивается его роль в развитии страны и общества, в формировании внутренней и внешней политики государства. Выражаясь более коротко, со временем Урал становится иным, но под его влиянием иной становится и Россия. А суть этого процесса заключается в постепенной утрате регионом такого качества как периферийность, и сближением его по ряду основополагающих характеристик с цивилизационно-страновым «ядром».
Если опустить частности, то в этом процессе видны три главных этапа. Первый приходится на XVI–XVII вв. То было время колонизации региона русскими, сначала военно-промысловой, а затем земледельческой. И как ареал начального освоения он являлся периферией формирующейся империи. Этот статус закреплялся специфическими формами регионального управления.
Второй этап – с начала XVIII и до последней четверти XIX в. – характеризуется протоиндустриализацией (созданием мануфактурной промышленности) Урала и сопутствующими ей социально-институциональными трансформациями. Одновременно продолжалась колонизация отдельных территорий края. Переплетение этих процессов определило содержание данного периода. Его можно назвать временим фронтирной модернизации или модернизации в условиях незавершенного начального освоения. Тогда же произошло изменение места региона в составе Российской империи. Урал приобрел качества «полупериферии», стал форпостом хозяйственного освоения территорий, расположенных восточнее. А его отношения с «центром» постепенно унифицировались в соответствии с общероссийскими образцами.
Третий этап можно условно определить как индустриальный транзит. Он охватывает последнюю четверть XIX в. и практически все XX столетие. Для России это было время перехода от традиционного аграрного общества к обществу индустриальному, современному. Одним из локомотивов данного процесса в масштабах всей России являлся уральский регион, переживший, как и вся страна, несколько волн модернизационных преобразований. В результате произошло принципиальное изменение его функций. Он прочно утвердился в составе системообразующего ядра нашей государственности, стал неотъемлемой частью так называемого «центра» российской цивилизации. Неслучайно, подхватив крылатую фразу поэта, Урал часто называют сегодня «опорным краем державы».
Конечно, предложенная периодизация схематична. Она требует верификации конкретно-историческим материалом, тщательного соотнесения с общероссийскими процессами. Тем не менее в качестве рабочей гипотезы ее использование представляется оправданным. Теперь предстоит выстроить и реализовать детальный план исследования, обобщить его результаты в виде цельного труда. Это непростая задача. Ее сложно выполнить силами одного института. Здесь нужна кооперация усилий с историками Уральского федерального университета, представителями смежных научных дисциплин и т. д. Первые шаги в данном направлении уже сделаны.
Думается, в успехе нашей работы объективно заинтересованы властные и управленческие структуры. Ведь создание обобщающих исторических трудов имеет не только познавательное значение. В конце концов практической политике постоянно приходится выбирать, опираться ли ей на фундамент исторической преемственности или строиться на критическом переосмыслении прошлого опыта. Насколько важно сделать в этом плане разумный, взвешенный выбор, чита- тель может судить по тому, как много уже потеряла Россия от бездумного отношения к своему прошлому, своему историческому наследию…
В заключение стоит привести слова нобелевского лауреата по экономике Д. Норта: «История имеет значение. Она имеет значение не просто потому, что мы можем извлечь уроки из прошлого, но и потому, что… выбор, который мы делаем сегодня или завтра, сформирован прошлым» [3, с. 12].
Список литературы Урал в структуре российской государственности: проблемы исторической реконструкции
- Алексеев В. В. «Прогнозировать наш завтрашний день и говорить правду в дне вчерашнем». Двадцать лет академическим гуманитарным наукам на Урале/В. В. Алексеев//Наука. Общество. Человек. -Вестник УрО РАН., 2009. -№ 3(29). -C. 43-55
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв./Ф. Бродель. -М.: Прогресс, 1992. -Т. 3.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. -М., 1997.
- Трейвиш А. Теоретическая география, геополитика и будущее/А. Трейвиш, В. Шупер//Свободная мысль, 1992. -№ 12.