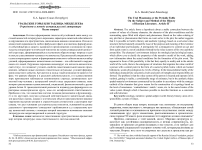Уральские горы или таблица Менделеева. О предмете и методе истории русской литературы. Часть вторая
Автор: Баршт Константин Абрекович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье сформирована гипотеза об устойчивой связи между системой ценностей литературного персонажа, характером сюжетной событийности и окружающим его пространством, наполненным вещами и явлениями. Исходя из ценностной окрашенности любого фабульного факта или явления, формирующего событийный ряд в сюжете, выдвигается предположение о возможности строительства литературно-эстетической типологии на основе универсальной ценностной структуры, сформировавшейся естественным образом вокруг вопроса о цели и смысле существования человека и человечества. Предпосылкой совершения поступка литературным героем и формирования сюжетного события является набор условий, сформированных ценностными системами - его собственной и окружающих его людей. Окружение персонажа индексирует его онтолого-аксиологический статус, что позволяет уточнить свойства повествовательной модели произведения, добавляя новые сведения относительно актуальных условий формирования сюжетного события. Аргументом в пользу такой возможности является тот факт, что равным образом и в реальной действительности, и в художественном мире произведения наблюдается возникновение структур, организующих ценностный мир человека с центральной точкой в виде сакрального символа, ниже которого расположены гедонистический, социальный, физиологический и другие уровни бытия. В трансцедентальной реальности индивидуума формируются характерные концентрические круги, зоны его метафизической ответственности. Проблема в том, что ценностная система человека расположена и функционирует в его кругозоре, получая в реальной действительности значительный диапазон различных оценок, однако в эстетическом объекте пространственно-вещевое окружение выстроено автором в стратегическом соответствии с кругозором персонажа, что дает основания для строительства типологии, основанной на уровне удаленности / противоречия / совпадения / приближения и т.д. к сакральному центру ценностной системы, с помощью которой оказывается возможным описание литературы как непротиворечивой и цельной структуры.
Аксиология, повествование, пространственно-предметный мир, история литературы, зоны ответственности, система ценностей
Короткий адрес: https://sciup.org/149127479
IDR: 149127479 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00093
Текст научной статьи Уральские горы или таблица Менделеева. О предмете и методе истории русской литературы. Часть вторая
В самом общем виде вопрос выглядит так: возможно ли построение нарратива, повествующего о литературе как процессе, обладающем своей логикой развития и основанном на причинно-следственных связях между сменяющими друг друга элементами, расположенными в хронологическом порядке? И какого рода изменения этот нарратив должен описывать?
Проблем, связанных с этой задачей, много. Мировая литература существует как устойчивая одновременность и вечная современность, независимо от времени создания входящих в нее текстов, и не требует для себя никакой специальной «истории» помимо той, которая реализована ее текстами. Второе: ни у кого из смертных нет доступа к прошлому как ре-
** The work was done with the financial support of the Russian Science Foundation, project No. 18-18-00263 “Integrated automated database The United Digital Archive of Manuscripts of F.M. Dostoevsky”.

альности, и мы можем судить о нем лишь по некоторому набору текстов, которые доходят до нас не все и не всегда: современности известна лишь малая часть материала, обеспечивавшего течение литературного процесса, а это означает заведомую неполноту источников, нарушение научного принципа. Это касается даже недавнего прошлого (XX век), и тем более -памятников литературы, которым более одного века. Но и тексты, которые не канули в лету, обладают невероятным объемом, который неизбежно требует отбора, тем самым приводя к неустранимой субъективности построенной таким образом «истории», а временами - к парадоксам. Как известно, Гегель исключал из круга событий мировой истории происходящее в Сибири, и с этой точки зрения творчество В.К. Арсеньева или Д.Н. Мамина-Сибиряка оказывается выброшено из истории литературы. Кроме того, историк литературы по необходимости ссылается на события, которые находятся для него в прошлом, а для описываемых им персон - в будущем. Это избыточное знание - добавочный фактор риска.
Строитель истории литературы обязан обладать полнотой понимания цели и смыслового наполнения описываемого им процесса, в любом ином случае его претензия оказывается несостоятельной, и речь может идти не об истории, но о хронологии. Попытки обратить мировую или национальную литературу в нарратив затруднительны еще и потому, что писатели, создающие свои высказывания о мире с различных точек зрения различными языковыми средствами, с трудом объединяются в «единства» и при жизни, и после смерти, каждый их них живет и творит наедине с миром, включающим в себя сумму литературных текстов, выработанных человечеством и ему доступных. Поиски общих закономерностей в сфере, где устойчиво работает принцип исключительности, неизбежно приводит к искажениям. Представить себе лес в виде единого общего «дерева» можно, однако целесообразность такого рода абстракции вызывает сомнения.
В поиске решения этих и других тяжелых проблем В.М. Жирмунский предлагал модель истории литературы как процесса непрерывного и плавного течения [Жирмунский I960], ГА. Гуковский и Н.П. Конрад, напротив - в виде ломаной линии, цепочки катастрофических изменений [Гуковский 1946, 6-10; Конрад 1966, 452]. Однако если задачей историка литературы является формирование модели литературного процесса, нет необходимости описывать явления этого процесса именно в том порядке, в каком они происходили. Уходя от «хроники», история литературы обращается в теорию, которая подтверждается в той мере, в какой группируемые ею факты образуют убедительную, непротиворечивую структуру, своего рода «таблицу Менделеева», как известно, обратившей в строгую систему гетерогенные богатства минералов Уральских гор. Вероятно, это имел в виду Б.М. Энгельгардт, когда писал о том, что «геология, изучая теорию земной коры, получает ряд сведений о составе и характере пород, ее образующих, из минералогии, кристаллографии и т.д.», от аналогии переходя к мысли о том, что по тому же принципу должно строиться и изучение истории литературы [Энгельгардт 1927, 38].
В соответствии с этой общей идеей Д.С. Лихачев выдвигал требование создания «теоретической истории литературы», в которой будет представлена модель многоуровневой системы взаимосвязей между разнородными компонентами литературной жизни, включая ее «микро-» и «макрообъекты» [Лихачев 1998, 7]. Известная шутка М.Ю. Лотмана о том, что из тысячи бифштексов не составится корова, хорошо передает методологическое настроение Лихачева, уверенного в том, что из множества историй различных текстов и авторов нельзя напрямую составить историю литературы: «<.. .> не может быть истории литературы без теоретических обобщений. <.. .> Обобщением являются и периодизация, и расположение материала по главам, и отнесение произведений к тому или иному периоду или жанру, и последовательность расположения материала, и самый отбор материала (авторов, произведений и пр.)» [Лихачев 1998, 7]. В своей концепции теоретической историографии Лихачев требовал отказаться от прямой хронологии, «слепого следования» изучаемому процессу [Лихачев 1998, 6].
Из этого ясно, каково могло быть отношение ученого к эмпирическим и эклектико-метафорическим построениям. Выдвинутая им «теоретическая история литературы», отказывается от хронологически выстроенной фактографии, представление о динамике литературного процесса - важнейший инновационный компонент историографии Лихачева, в котором он вплотную подходит к идее тотального семиозиса М.Ю. Лотмана, указывавшего на принципиальную неравномерность структуры коммуникации в эстетической сфере, где процессы образования смысла обретают пульсирующий характер. Согласно мысли Лихачева, литературное явление может как бы «застревать» в литературе, жить и претерпевать различные изменения, накапливая ценную информацию, но затем совершать ступенчатый переход в новое качество. Художественное произведение меняется с течением веков, «постоянно самообновляется, и это самообновление осуществляется с помощью исторического подхода читателей», следовательно, история литературы должна учитывать, что одно и то же произведение имеет различные значения в разные периоды своего бытования, «изъятие из контекста эпохи делает произведение крайне неустойчивым» [Лихачев 1989, 22]. Соглашаясь в этом пункте с Х.-Р. Яуссом, Лихачев указывает, что свое значение произведение обретает во время прочитывания, которое по отношению к читателю есть полноценная эстетическая деятельность, фактическое сотворчество. Одним из продуктов такого сотворчества является категория жанра, весьма условного конгломерата художественных форм, слепленных воедино читательским вниманием и пониманием. Согласно известной формуле Ю.Н. Тынянова, жанр маркирует определенный вариант слияния поэтического слова с темой [Тынянов 1977, 39], в нем фиксируется читательское предпочтение, заведомо известное автору и учитываемое им.
Проблемой является то, что события в художественном тексте квалифицирует реципиент, исходя из наличной системы ценностей, определя-
емой современной ему культурой и личными морально-экзистенциальными особенностями. Как в этих условиях строить историю литературы, по определению состоящую из триллионов рассказанных и записанных историй? Возможен ли инструмент, способный обработать эту сумму данных, сравнив каждый нарратив с каждым? И, главное, каков будет результат такого сравнения? Предположительно, он будет равен нулю, что-либо выяснить на этом пути невозможно, так как каждое событие, в каждом литературном произведении основанное на индивидуальной системе ценностей, сосуществующей с персонажем в данном тексте, резко меняет семантику в любом ином случае и при каждом индивидуальном прочтении. Таким образом, рассказанные в художественном произведении события в роли материала истории литературы - методологически недостоверны, они декодируются читательской средой сегодня не так, как воспринимались при своем появлении в печати; этот разрыв между современным автору и настоящим контекстами бытования художественного произведений практически невозможно квалифицировать. Кроме того, представление о «рассказывании истории» («интриги»), принятое сегодня как аксиома, нуждается в корректировке. Сюжетно-событийная информация поступает к читателю отнюдь не только и не всегда в виде речевого «рассказа», нарратив произведения включает в себя множество иных способов донесения информации до реципиента, в том числе - сообщения о параметрах времени и пространства, сопутствующих событию, мере ответственного внимания актора к миру, зафиксированных жестом, мимикой, упомянутым предметом или любым спонтанным движением.
Необходимо признать справедливость критических реплик Х.Р. Яусса в адрес «линейных построений» в истории литературы: такого рода конструкции основаны, как правило, на хронологии «появления крупных писателей, а анализ разворачивается по схеме “жизнь и творчество”. Писатели “помельче” остаются здесь ни с чем (их поселяют в “промежутки”)» [Яусс 1995, 40]. В. Шкловский и Ю.Н. Тынянов также с сарказмом отмечали существование в каждой исторической эпохе «канонизированного гребня» литературной школы, который затем является основным фактором ее автоматизации с последующим «врыванием» новых форм на место «старшей» с последующим вытеснением на периферию. Однако, отмечал Ю.Н. Тынянов, описать эту смену - еще не значит построить историю литературы. Относительно формирующегося в советской академической науке клана литературоведческих «жрецов» им замечено, что не существует художественных произведений, предназначенных для их прочтения текстологами или историками литературы. В качестве исключения, правда, можно назвать «Имя Розы» Умберто Эко.
М.М. Бахтин указывал, что в основании литературного процесса лежит диалог, при котором смысл литературного текста рождается как итог взаимодействия различных точек видения реальности и отнюдь не принадлежит по отдельности писателю или читателю. Тем не менее, было бы неправильно остановить поиски некоего общего знаменателя для всех и любых литературных произведений, не зависящего от времени создания текста и обладающего способностью изменяться с течением времени. Ясно, что этот элемент художественной структуры литературного произведения должен находиться внутри текста, а не вне его.
Однако чаще исследователь, столкнувшийся с указанными трудностями, решает проблему по образцу «колумбова яйца», прилагая к литературе внешний по отношению к ней знаменатель, который в роли удобного инструмента насильственно сводит воедино начала и концы литературного процесса. Например, в рамках той или иной «общественно-экономической формации», сексуального комплекса, или архетипа, или пресловутой «деятельности духа в одной из абсолютных его сфер» [Аксаков 2011, 29]. Последнее, временами стремящееся привязать литературу к той или иной религиозной конфессии, было особенно популярно в недавние годы. Ничем не оправданная амбициозность такого подхода очевидна: заявляя подобного рода идею, необходимо признать себя сведущим в логике развития человеческого духа на всем протяжении мировой истории, на что вряд ли претендовал процитированный выше К.С. Аксаков. Ведь если вообразить себе персону, реально обладающую таким знанием, придется признать, что в роли автора он будет заниматься не историей литературы, но новым Евангелием. Путь поиска «внешнего знаменателя» литературного процесса неизбежно ведет к догматическому подходу, а также той или иной модели нормативной эстетики. Понимая это, Бахтин настойчиво требовал методологической точности в отношении к предмету истории литературы, указывая, что изучать нечто в произведении (наир., идеологию) значительно легче, чем само произведение как цельное эстетическое явление [Бахтин 1997, 331].
Структурный каркас художественной системы составляют события, изложенные в определенной последовательности и связанные между собой в смысловую цепочку сюжетом, фиксирующим их преемственность. Исходя из этого, А.Н. Веселовский поставил вопрос о сравнительно-историческом изучении художественной событийности: на основе сходств-отличий сюжетов выстроить историческую поэтику как динамическую сюжетологию, на основе сравнения между собой последовательности используемых «мотивов» и предшествующих созданию текста «преданий» [Веселовский 1989]. То есть историк литературы призван сформировать ряд метасюжетов из сюжетов произведений мировой литературы, однако это требует признания единства поэтических кодов рассматриваемых текстов, что выглядит как недопустимое упрощение. Неслучайно наиболее удачная попытка такого рода была осуществлена В. Проппом в отношении волшебной сказки. Это могло состояться только потому, что кодовые параметры сказок чрезвычайно близки, различиями между ними можно было пренебречь, что и легло в основание метода В. Проппа [Пропп 1998].
Усилиями Бахтина было доказано, что творчество каждого автора опирается на индивидуальное «предание» и общего для всех писателей «предания» не существует, различия этих индивидуальных фондов прочи-
тайного не менее значительно, чем различия в художественных системах авторов данных произведений. Подобного рода проблема содержится и в прагматике текста: одно и то же текстовое событие может быть составной частью неограниченного количества самых различных темпоральных конструкций, каждая из которых будет обладать новым значением при малейшем изменении контекста. В конечном счете творцами пресловутого «стиля эпохи» оказываются как авторы произведений, так и те, к кому они обращаются [Лихачев 1987, 440]. Эта мысль фактически совпадает с тем, что писал Лотман о «литературном коде» определенного времени [Лотман 2010, 8, 13, 17,21, 108-110]. Подобного рода идею стиля, общего для эстетических явлений определенного периода, ранее выдвигал В.Н. Перетц, определяя его как «сумму подчиненных объединяющей норме средств выражения, в которых обнаруживаются эстетическая концепция и преобразующая сила творящего» [Перетц 1922, 14]. Эта идея получила поддержку П.Н. Сакулина: «Высшим обобщением явится литературный стиль эпохи» [Сакулин 1925, 48]. Но эти абстракции высокого уровня лишь условно помогают в соединении конкретного художественного текста с общей историей литературы.
Чтобы выстроить траекторию эволюции определенного набора разновременных явлений, необходимо опереться на структурный элемент, который неотъемлемо присутствует во всех рассматриваемых явлениях, независимо от жанра, эпохи, размера и любых других ограничений и условий. Этот элемент должен иметь атрибутивную необходимость своей опорной функции и одновременно способность к многообразным изменениям, не выходящим за рамки его коренного качества; в историческом аспекте -эволюционировать и модифицироваться, сохраняя при этом неизменными свое место и роль в работе художественного дискурса. Таким элементом структуры художественного текста, обладающим выдвинутыми выше требованиями, является повествование - точка зрения на мир, «голос» в виде письменного свидетельства о «другом» и о мире в целом [Фрейденберг 2018, 28-76]. В выборе этого опорного параметра, позволяющего строить непротиворечивую и логически оправданную историю литературы, мы исходим из того, что в рамках понятия «литература» все тексты обладают тем или иным нарративным форматом, включая и «описания», также выполненные с определенной точки зрения и в определенном повествовательном модусе, пусть и доходящим иногда до «нулевой фокализации» или «безличного» уровня [Женетт 1998, II, 221-222; Корман 1992, 154].
В методологии Ж. Женетта, казалось бы, ярого противника идеи «истории литературы», присутствуют некоторые намеки на возможность строительства историко-литературной концепции, основанной на мутации нарративных форматов. Выражая протест против хронологии, которая виделась ему как прикрытие зловредной идеи последовательного развития литературы, и сосредотачиваясь на отдельных явлениях повествователь-ности, он обозначает методологическую перспективу в исторической эволюции наррации в виде пути от нулевой фокализации к «роману Пруста»
[Женетт 1998,1, 79-101, 114]. Подходы к идее истории литературы на основе теории повествования предпринимались также П. Рикером [Рикёр 1998], который пытался связать эстетическую референцию с категорией историзма. Как и Женетт, отказываясь от плоской хронологичности и опираясь на тезис о «структурной тождественности историографии и художественной литературы», он предлагает сосредоточиться на «исследованиях структурной идентичности нарративной функции», выстраивая систему «перекрестной референции между вымышленным рассказом и историческим рассказом, точка пересечения которых лежит в живом опыте времени». Двигаясь в этом направлении и опираясь на конкретный живой материал литературы, можно, по его мнению, обнаружить шансы избавить научный продукт от излишней схоластичности и метафоричности, выстроив «нарративную или по крайней мере донарративную структуру временного опыта» [Рикёр 1998, 13, 44, 74], что создаст условия для органического сочетания фактора времени и эстетического объекта в его конкретной бы-тийности.
С помощью учета модальности реплик отдельных персонажей (перформатив, итератив, ментатив и др. [Остин 2006; Тюпа 2010]), которые правильно ложатся в различные типологии, выйти к общему интегралу истории литературы затруднительно: слишком много промежуточных условий обнаруживается между текстовым значением и значениями отдельного высказывания персонажа или нарратора. Методологические неудачи в поиске устойчивой связи между событийно-сюжетной канвой произведения и его общетекстовым смыслом заставляют обратить внимание на пространственно-временные параметры художественной реальности, окружающей нарратора и/или персонажей и служащей семантической платформой для образования события.
Согласно традиции, начало которой положено полтора века назад А.Н. Веселовским, говоря о «поэтике», мы имеем в виду, что она именно «историческая», то есть художественная структура произведения складывается из ряда условий и предпосылок, в центре которых - акт повествования как функция «голоса». Далее было установлено, что индивидуальное видения мира отнюдь не монолитно, оно расслоено на внутреннюю и внешнюю сферы, пользуясь бахтинским определением - «кругозор» и «окружение». Авторское слово выступает как буферная зона, рождая художественную форму из ресурсов специфического видения автора. С этим согласуется мнение О.М. Фрейденберг, которая описывала донарративные и первонарративные литературные формы как реализации голоса, обращенного еще не к принципиально равному «иному» сознанию, что было бы нарративом, но в целом к миру в его полумифологическом формате, олицетворенному «хором»: «<...> речь есть первая форма рассказа, и оттого она так долго остается за повествованием <.. .>. И драма появляется в фольклоре не в силу первичности обряда, а потому, что она представляет собой до-повествовательную форму, изображение воочию, не требующее еще ни рассказа, ни действия; она организуется приходами и уходами, аго-
нами и речами. Почему именно в Греции расцвет драмы? Потому что Греция еще не умеет повествовать» [Фрейденберг 1978, 268; Фрейден-берг 2018'28-76].
Сегодня мы знаем, что из мифологемы «кругозора» и в опоре на внешнюю по отношению к автору точку зрения возникает любой нарратив - не только в древности, но и сегодня, и не только в рамках письма в жанре «фэнтези», но подчас и в научных текстах [Уайт 2002, 23,25-27]. Перспектива строительства истории литературы на основе стержневой категории повествовательности с еще большей отчетливостью вырисовывается в неопубликованной работе Фрейденберг «О происхождении литературного описания», о которой мы знаем по публикации Н. Брагинской и статье А. Олейникова [Олейников 2004; Лотман 1973, 483-484]. В рамках этой концепции написание истории литературы естественным образом выливается в создание нарратива, описывающего соотношение элементов мифа и наррации в каждом тексте или группе текстов как пространственная реализация отношения «кругозорного» и «окружного» видения.
Традиционный способ связывания между собой литературных произведений - выявление цитаций и аллюзивного плана - несомненно, помогает выявить параметры читательского горизонта ожидания, полезен для уточнения параметров поэтического кода автора [Рикёр 1998, 65-106]. Однако в функции стержня, который мог бы объединить в одно целое все и любые тексты мировой литературы, остается формат нарратива, учитывающий степень и качество связи с внутренним и внешним миром «другого». Тем самым чтобы построить методологически достоверную историю литературы, необходимо суметь дистанцироваться от содержания рассказанных историй, сосредоточившись на том, что предопределило условия, при которых они были рассказаны. В этом подходе преодолевается проблема произвольности трактовки события со стороны реципиента, так как актуализируется не фабула произведения, но «обобщенное референтное пространство коммуникативного взаимодействия» [Тюпа 2011, 9]. Так или иначе оформленная пространственно-временная объективность места действия выступает в функции основного носителя смыслового поля, на котором, питаясь его энергией, произрастает событие; в отличие от событийности бытовой, пространство эстетической коммуникации формируется автором таким образом, чтобы свести к минимуму ложные прочтения и трактовки, оно обладает заведомой прочностью и несомненностью. Невозможно построить историю литературы на фабульном материале рассказанных в ней историй, но можно построить историю того, как было организовано смысловое пространство, ставшее предпосылкой и средой рассказывания в том или ином модусе наррации.
Предметный мир вокруг персонажа литературного произведения ценностно окрашен, «человек - конкретный ценностный центр архитектоники эстетического объекта; вокруг него осуществляется единственность каждого предмета, <...> все предметы и моменты объединяются во временное, пространственное и смысловое целое завершенного события жизни» [Бахтин 2003b, 87]. Материал окружения героя составляет основу индексации свойств его внутреннего мира, внутреннее состояние персонажа передается знаками, сформированными с помощью пространственных характеристик и пластически. Объекты, окружающие героя, наравне с его словами, мыслями и действиями, составляют информационный поток, составляющий основу динамической структуры художественного произведения. Эти четыре слоя знаков работают в тесном единстве, указывают на систему ценностей персонажа. С другой стороны, функциональное назначение того или иного предмета связывает намерения и желания персонажа в сюжет, в этом смысле в художественном тексте нет ничего, кроме объектов, вступающих в контакт и перемещающихся друг относительно друга. «Предметный мир внутри художественного произведения осмысливается и соотносится с героем как его окружение. <...> этот чисто живописнопластический принцип упорядочения и оформления внешнего предметного мира - совершенно трансгредиентен живущему сознанию героя, ибо и краски, и линия, и масса в их эстетическом трактовании суть крайние границы предмета, живого тела» [Бахтин 2003b, 174].
Индивидуум несет в себе, в том или ином модусе адекватности, свою версию ценностного мира Космоса, является его образом и подобием. Человек - конкретная и конечная субъективность, существующая в локальном ценностном мире, определяющем возможную структуру мира. Основная тема мировой литературы полностью совпадает с корневым вопросом о смысле и цели существования человека и Мироздания. Это центральная точка смыслового ядра мировой литературы, «вековечный» по определению Достоевского вопрос о том, что есть человек, каковы цель и смысл его существования. От этой исходной точки прокладывается азимут моральных и деловых интенций персонажа литературного произведения.
Окружающее пространство персонажа выстроено архитектонически в соответствии с предпосылками поступков и сюжетных движений действующего лица: «<...> пространственные и временные отношения соотносятся только с ним и только по отношению к нему обретают ценностный смысл: высоко, далеко, над, под, бездна, беспредельность - все отражают жизнь и напряжение смертного человека, конечно, не в отвлеченно-математическом значении их, а в эмоционально-волевом ценностном смысле». Этот фактор, как пишет Бахтин, «дает масштабы для пространственного и временного ряда», которые, в свою очередь, свидетельствуют о сюжетной диспозиции, предшествующей событию [Бахтин 2003а, 59].
Система ценностей личности, предопределяющая событие, складывается не из хаотического набора случайных деталей, но в опоре на структуру ценностей реального мира. В процессе освоения действительности персонаж литературного произведения «приспосабливается» к чужим культурным нормам, пытается утвердить их для себя, оказывается связан ими. Специфика человека заключается в строительстве системы ценностей, которая выходит за пределы его телесных благ. Качество трансце-дентального мышления может выступить критерием реконструкции мо-
рально-метафизической модели бытия, степени близости/удаленности относительно «социального животного», в отношении принятия в свою зону ответственности определенной части окружающей реальности сравнительно с тем, что необходимо для поддержания его органического существования. Отсюда, совпадая с концепцией Ю.М. Лотмана, возникает два типа литературных героев: сохраняющих свое место в пределах низшего, органического уровня своего ценностного поля и вырывающихся за его пределы. В этом смысле поступки героя, направленные на нарушение некоей нормы и образующие сюжетное событие, есть реализация ценностей, которые становятся действительностью в «поступке на основе признания единственной причастности моей» [Бахтин 2003а, 41]. В этом смысле сомнение в какой-то ценности и есть главная продуктивная ценность: «Эта ценность сомнения нисколько не противоречит единой и единственной правде, именно она, эта единая и единственная правда мира, его требует» [Бахтин 2003 а, 43].
Литературный герой, как и реальный человек в действительности, испытывает давление на себя широкого круга факторов - гедонистических, эстетических, этических, утилитарных, логических; конкретное сочетание и свойства этих факторов создают предпосылку поступка и условия образования события. В самом общем виде это четыре группы ценностей и соответствующих им предметно-пространных зон, по возрастанию трансцендентной составляющей: физиологический уровень (приятно е/неприят-ное, зона ответственности - тело), экзистенциальный уровень (добро/зло, подъем/спад и др., зона ответственности - область социума), духовный уровень (истина/ложь, прекрасно/безобразное, зона ответственности -культурный анклав), сакральный уровень (сакральное/профанное, вера/ неверие, зона ответственности - Мироздание в целом). В историческом аспекте эта естественным образом возникшая типология запечатлелась в виде известной триады «Красота - Добро - Истина» (обратим внимание на последовательность элементов).
Сюжетное событие происходит в аксиологически окрашенном мире, «отсюда загорается ценностным светом и вечный смысл действительно осуществленной мысли» [Бахтин 2003а, 51, 53]. Событийность определяется качеством контакта двух или нескольких систем ценностей, принимающих или не принимающих в себя чужие критерии и оценки. Бахтин в своей работе «К философии поступка» указывал, что слово не только обозначает предмет как некоторую наличность, но и выражает «мое ценностное отношение к предмету, желательное и не желательное в нем и этим приводит его в движение по направлению заданности его, делает моментом живой событийности» [Бахтин 2003а, 32]. Отделяя этот момент от зыбкой почвы «психологического», он писал о выражении в прозаической композиции «эмоционально-волевого» как «событийности оценки» [Бахтин 2003а, 33]. Бахтин утверждал систему ценностей индивидуальности как основу ее бытия-события: чтобы принять в свой кругозор чужую ценность, нужно утвердить «другого» как безусловно ценное существо, реализуя свое «положительно-приемлющее» отношение к нему. В основе формирования ценностного контекста находится мера ответственности за «другого»: «Мое активное единственное место не является только отвлеченно геометрическим центром, но ответственным эмоциональноволевым, конкретным центром конкретного многообразия бытия мира» [Бахтин 2003а, 52]. По мере возрастания уровня причастности бытию и повышения ответственности его «время и пространство индивидуализу-ются, приобщаются, как моменты ценностной конкретной единственности» [Бахтин 2003а, 54].
В процессе жизни индивидуум погружается в быт, молится, делает или не делает служебную карьеру, испытывает боль и наслаждение. Все это же свойственно и литературным героям, с той только разницей, что реальный человек очень редко получает пространство для жизни, которое он хотел бы иметь, в то время как литературный герой всегда получает именно то пространство, которое позволяет вполне раскрыться его характеру. Это свойство эстетического объекта позволяет восстановить ценностную систему персонажа, определяющую формирование сюжетных событий, с помощью изучения свойств окружающего его пространственно-вещевого мира. Из доминирования литературного персонажа в одной из этих парадигм можно представить себе набор из четырех амплуа: сибарит, герой, гений, святой.
Событийность определяется качеством контакта двух или нескольких систем ценностей, принимающих или не принимающих в себя чужие критерии и оценки. Бахтин в своей работе «К философии поступка» указывал, что слово не только обозначает предмет как некоторую наличность, но и выражает «мое ценностное отношение к предмету, желательное и не желательное в нем и этим приводит его в движение по направлению заданности его, делает моментом живой событийности. Все действительно переживаемое переживается как данность <...>, вступает в действенное отношение ко мне в единстве объемлющей нас событийности» [Бахтин 2003а, 32]. Отделяя этот момент от зыбкой почвы «психологического», он писал о выражении в прозаической композиции «эмоционально-волевых» условий как «событийности оценки»: «Система оценки автора должна быть позицией архитектонической <...>» [Бахтин 2003а, 34]. Разумеется, это общий абрис идеи, требующий уточнения и детализации.
Чем выше духовное развитие человека, тем меньше у него согласия с окружающей реальностью, здесь рождается еретик, аскет, протестант, «вечный Фауст». Неудовлетворенность реальностью - корневое свойство протагониста, определяющее всю структуру его поступков и сюжетную структуру произведения, состоящего из ряда актов несогласия с окружающей действительностью. Для нас важно, что расхождение между основной ценностью человека и осознанным благом является едва ли не самым мощным сюжетообразующим механизмом мировой литературы. Мотивы движения персонажей по сюжету определяются именно этим расхождением, имеющим комический или трагический характер, в зависимости от
того, какие ценности и блага вступают в конфликт. В отличие от Юма, который мог философствовать, занимаясь кулинарией, герой литературного произведения философствует не частью своего «я», но целиком, всеми силами своей души, всем своим существом; изучая набор реакций на окружающие вещи и явления, можно выстроить логику перехода поступка героя в сюжетное событие.
Воля литературного героя направлена на пространственно-ценностные рамки своего бытия, важно понять, что именно он собирается с ними делать. Это поможет обосновать зарождающийся на этом месте повествовательный акт и возникающее сюжетное событие. С этой точки зрения сюжет представляет собой набор контактов между несколькими системами ценностей внутри и вовне текста, где особую роль играют «принципы сочетания кругозоров, стыки и переключения» [Бахтин 2003b, 243].
Важно учесть, что в литературном произведении не бывает одного изоморфного пространства, но наличествует ряд пространств и соответствующих им систем ценностей, закрепленных в активно взаимодействующих между собой хронотопах. Расхожее представление о том, что в литературном произведении лишь один «художественный мир», должно быть в связи с этим скорректировано. В пределах нескольких пространств, являющих собой «существенную почву для показа-изображения событий» [Бахтин 2012а, 288], завязываются и развязываются сюжетные узлы. Пространственные характеристики окружения литературного героя манифестируют его бытийное состояние, тем самым эти пространственно-аксиологические образования является семантической платформой для образования события.
Доказательство аксиологического смысла семантики пространственно-временных категорий содержится в известной книге Ю.М. Лотмана [Лотман 1998, 211-221], где доказано, что знаки, указывающие на параметры художественного пространства - это специфический язык, выражающий содержательные понятия и образующие смысловой фундамент для реализации событийно-сюжетной канвы произведения [Лотман 1988, 252-293]. Изучая параметры пространства и времени, сопутствующие тому или иному событию, и учитывая, что нарративная модальность варьируется в небезграничных пределах [Тюпа 2008, 127], мы получаем шансы для перспективной типологии. Вероятно, это имел в виду Умберто Эко, когда говорил, что установить определенный ракурс видения - значит установить определенный «текстовый топик» [Эко 2005, 397]. Параметры образования художественного события являются одной из больших тем нарратологии, давно идут споры о количестве и содержательной стороне этого набора условий [Шмид 2008, 4-27]. На наш взгляд, было бы целесообразно включить в эту парадигму критерий трансцедентальной ответственности актора, учитывая, что пространственные знаки ясно очерчивают границы поля ответственности персонажа и тем самым указывают на возможность его расширения или сужения, что, собственно, и является базовым эстетическим событием в художественной литературе.
Поступок (слово, действие, мысль), формирующий сюжетное событие, совершается в принципиальном соответствии с качеством пространства, окружающего актора. Семантически насыщенные пространственные категории в художественном тексте указывают на зоны, которые тот или иной персонаж считает «своими», тем самым, фактически, обозначают его систему ценностей. Например, своей зоной ответственности считает государство герой классической драмы XVIII в., с презрением или равнодушно относясь к земле и к природе, в то время как категорически чужим считает государство герой-философ А. Платонова, одновременно трактуя землю как сакральное «вещество существования». Сакрализация ценностных зон «другого» в русском классическом романе середины XIX в. противостоит категорическому отрицанию или демонизации «другого» в романтической поэзии 1820-30-х гг, с различными градациями в мере ответственности -от готовности пожертвовать жизнью до покупки за недорого. От взгляда со стороны сиюминутной выгоды до взгляда с позиции вечности [Тюпа 2011, 16]. Разумеется, сюда относится и хорошо изученный вопрос о художественной топографии: «наполеоновская идея» зарождается в сознании Раскольникова в «комнате-гробе», отказ от нее - на берегу Иртыша, жилище спасшей Раскольникова Сони - большая комната уродливой формы [Достоевский 1973, 241] и пр. Изучению подлежит художественный мир произведения, состоящий из объектов, наделенных различными ценностями изнутри различных точек зрения, и, одновременно, меняющих свою ценность в каждой из этих точек видения.
Бахтин показал, что расхожее представление о том, что «кругозор» -это «свое», а «окружение» - «чужое», не соответствует действительности. И там, и здесь существуют зоны ответственности, отграниченные зонами безразличия. Здесь коренится двойственность в контакте между «я», обращенным к «тебе»: «положительно-приемлющее» отношение базируется на совпадении зон ответственности вступающих в диалог индивидуумов, конфликт между «я» и «ты» возникает при выявлении несовпадений. Статус личного пространства персонажа в этой парадигме характеризуется соотношением точки в системе координат по оси зоны ответственности и по оси меры ответственности. Сюжетные события тем самым можно подразделить на события расширения зоны ответственности и события сужения зоны ответственности персонажа, учет конфигурации личного пространства персонажа позволяет выстраивать аксиологические типологии. Другим позитивным моментом может быть названа возможность установить связь между повествовательным событием и общим текстовым смыслом произведения, что традиционно вызывает затруднения. Установка повествовательного события на фундамент семантики окружающего его пространства, обеспечивающего его онтологическую состоятельность, может способствовать уточнению аксиологии всего произведения в целом; в этой работе происходит учет не самих событий, а условий их возникновения.
Некоторые выводы. Собрать в одно осмысленное органическое целое биографии писателей, тексты, поэтические коды и стили их творений - не-

выполнимая задача. Однако все тексты мировой литературы объединяет наличие в них той или иной формы нарратива с вросшим в его структуру ценностным ориентиром, указывающим на вектор трансцендентальности в виде так или иначе устроенного пространства-времени. В этой точке можно проследить изменения нарративной модели, тесно связанной с ценностно окрашенными параметрами пространства, исходным «холстом» для формирования событийности. Ведь если самое важное, что есть в литературном произведении, это его смысл, то «всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов», как справедливо утверждал Бахтин [Бахтин 2012b, 503].
Семантически насыщенный набор пространственных параметров в окружении литературного героя есть созданное автором условие реализации его «голоса», ответственного видения и вектора освоения пространства, позволяющее тем самым выстроить линию эволюции ряда литературных произведений и ряда эпох, каждой из которых свойственны свои ценностные модели и свои варианты освоения пространства и времени. Образующиеся при этом семантические линии могут стать основой связывания различных литературных явлений, не разрушая при этом их органичности, не навязывая им неприемлемых совпадений или равенств.
Список литературы Уральские горы или таблица Менделеева. О предмете и методе истории русской литературы. Часть вторая
- Аксаков К.С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М., 2011.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 69-283.
- Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 7-68.
- Бахтин М.М. 1961 год. Заметки // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 329-360.
- Бахтин М.М. К «Роману воспитания» // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. М., 2012. С. 218-335.
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т. Т. 3. М., 2012. С. 340-512.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
- Гуковский Г. А. Очерки по истории русского реализма. Ч. 1. Саратов, 1946.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 6. М., 1973.
- Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М., 1998.
- Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1960. Т. 19. Вып. 3. С. 177-186.
- Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1966.
- Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992.
- Лихачев Д.С. Контрапункт стилей как особенность искусств // Лихачев Д.С. Избранные работы: в 3 т. Т. 3. Л., 1987. С. 440-449.
- Лихачев Д.С. Принцип историзма в изучении литературы // Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989. С. 10-22.
- Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков: эпохи и стили. СПб., 1998.
- Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
- Лотман Ю.М. О.М. Фрейденберг как исследователь культуры // Труды по знаковым системам. Т. 6. Тарту, 1973. С. 482-486.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2010.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 13-285.
- Олейников А. Теория наррации О.М. Фрейденберг и современная нарра-тология: попытка сравнительного анализа // Русская теория. 1920-1930-е годы: материалы X Лотмановских чтений. М., 2004. С. 124-146. URL: http://kogni.narod. ru/freiden.htm (дата обращения 21.03.2020).
- Остин Д. Три способа пролить чернила. СПб., 2006.
- Перетц В.Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пг., 1922.
- Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторический корни волшебной сказки. М. 1998.
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. М.; СПб., 1998.
- Сакулин П.Н. Наука о литературе, ее итоги и перспективы. Т. XV. Синтетическое построение истории литературы. М., 1925.
- Тынянов Ю.Н. Вопрос о Тютчеве // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 38-51.
- Тюпа В.И. Модусы художественности // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 127-128.
- Тюпа В. И. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике. М., 2010.
- Тюпа В.И. Нарративная стратегия романа // Новый филологический вестник. 2011. № 3(18). С. 8-24.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.
- Фрейденберг О. Происхождение литературного описания / публ. и прим. Н. Костенко и Н. Брагинской // Теория и история экфрасиса: итоги и перспективы изучения. Siеdlсе, 2018. С. 28-76.
- Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
- Шмид. В. Нарратология. М., 2008.
- Эко У Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., 2005.
- Энгельгардт Б.М. Формальный метод в истории литературы. Л., 1927.
- Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34-84.