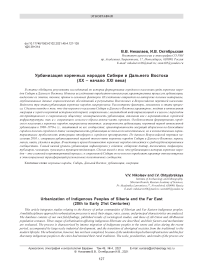Урбанизация коренных народов Сибири и Дальнего Востока (XX - начало XXI века)
Автор: Николаев В.В., Октябрьская И.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье обобщены результаты исследований по истории формирования городского населения среди коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Новизну исследования определяют комплексная характеристика процессов урбанизации, выделение ее этапов, темпов, причин и основных факторов. Исследование опирается на авторские полевые материалы, опубликованные данные социологических обследований и результаты Всесоюзных и Всероссийских переписей населения. Выделены три этапа урбанизации коренных народов макрорегиона. Рассмотрены факторы, механизмы и этапы процесса. Сделаны выводы о том, что для коренного населения Сибири и Дальнего Востока характерны: поздняя и интенсивная миграция в город в короткий исторический период, сопряженная с масштабной индустриализацией и в целом с переходом от традиционного к современному обществу; незавершенность урбанизации, связанная как с неразвитостью городской инфраструктуры, так и с сохранением сельского образа жизни части горожан. Особенностями формирования городского населения у коренных народов макрорегиона являются: асинхронность урбанизации, короткий период интенсивной урбанизации в 1960-1970-е гг., охватившей не все сообщества; ориентированность миграций аборигенов на ближайшие города и поселки городского типа; незавершенность урбанизации не только по качественным, но и количественным характеристикам; проблемность интеграции этнофоров в городское пространство. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. совершили урбанизационный переход только пять коренных народов Сибири и Дальнего Востока: кереки, манси, нивхи, уйльта и шорцы. В настоящее время большинство коренных народов относятся к среднеурбанизированным сообществам. Самый низкий уровень урбанизации зафиксирован у сойотов, сибирских татар, теленгитов, тофаларов, тубаларов, челканцев, чулымцев и тувинцев-тоджинцев. Сделан вывод о том, что урбанизация в истории коренных народов - это сложный и противоречивый процесс; в современной Сибири он во многом определяет характер этнокультурных и этносоциальных трансформаций региональных полиэтничных сообществ.
Коренные народы, сибирь, дальний восток, урбанизация, миграция
Короткий адрес: https://sciup.org/145146493
IDR: 145146493 | УДК: 39+314 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.127-139
Текст научной статьи Урбанизация коренных народов Сибири и Дальнего Востока (XX - начало XXI века)
В современной России известны 43 коренных народа Сибири и Дальнего Востока общей численностью 1,6 млн чел. (1,1 % народонаселения страны), из них 37 законодательно отнесены к коренным малочисленным народам, численность которых не превышает 50 тыс. чел. Значительная часть народов Сибири проживает в регионах с очень высоким уровнем (по определению и расчетам экономистов) урбанизации: в Кемеровской, Иркутской, Магаданской, Тюменской обл., Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском а.о. [Ефимова, 2014, с. 5]. Уровень урбанизации коренных жителей Сибири колеблется от 0,2 до 100 %. Проблема соотношения традиционного и городского образа жизни, как и оценки роли городов в формировании стратегий развития коренных народов макрорегиона, относится к числу приоритетных в современной регионалисти-ке и этнологии.
В административном пространстве и академическом дискурсе России городами считаются поселения с народонаселением от нескольких миллионов до нескольких тысяч человек, являющиеся центрами торговли, промышленности и/или администрирования [Город и деревня…, 2001, с. 79–81]. Их системная оценка составляет предмет исследований широкого круга гуманитарных и общественных дисциплин. Традиционно урбанизация (лат. urbanus – городской) рассматривается как исторический процесс повышения роли городов в обществе, который предполагает изменения в развитии и размещении производительных сил и социальной инфраструктуры, в организации расселения, образе жизни и культуре, духовных ценностях населения. В узком смысле урбанизация трактуется как рост городов (особенно крупных) и повышение доли горожан в структуре народонаселения региона [Староверов, 2010, c. 538].
В рамках междисциплинарных практик проблемы города и городского населения начали изучаться на рубеже XIX–XX вв. На протяжении ХХ в. разрабатывались подходы исторической урбанистики, новой экономической географии, методы индексации урбанизации, а также формировались теории стадийной и дифференциальной урбанизации и т.д. [Ефимова, 2014; Исупов, 2018; Колбина, Найден, 2013; Стась, 2020; и др.].
В сферу этнографических исследований проблемы изучения городов были включены во второй половине 1960-х гг. Советские этнологи осваивали теоретические и прикладные аспекты урбанистики. Методология исследований городских сообществ соотносилась с концептами этносоциальных процессов, которые в этот период утверждались в советской науке при участии Ю.В. Бромлея, Ю.В. Арутюняна, Л.М. Дро-бижевой, Г.В. Старовойтовой и др. [Будина, Шмелева, 1977, с. 26; Современные этнические процессы…, 1977; Стась, 2017].
К концу ХХ в. в России сложилась субдисциплина этнографии/антропологии города, в рамках которой выделилось несколько направлений: историко-этнографические исследования, изучение миграционных и этнодемографических процессов, выявление тенденций социокультурного развития, анализ городских сообществ с точки зрения их групповой идентичности [Пивнева, 2017; Стась, 2020; Урбанизация…, 2001].
Тема урбанизации коренных народов Сибири и Дальнего Востока в отечественной этнографии активно разрабатывалась на рубеже ХХ–XXI вв., хотя интерес к ней возник еще в начале ХХ в. в связи с процессами модернизации российских, в т.ч. сибирских, регионов. Уже тогда И.В. Турчаниновым, Г.И. Потаниным, А.И. Петровым и др. в ходе анализа истории и специфики сибирских городов в структуре их населения учитывались коренные народы (см., напр.: [Бахрушин и др., 1929, с. 717–724]).
В число приоритетов российской науки проблемы социальных трансформаций (включая процессы урбанизации) в среде коренных народов Сибири вошли в 1950-е гг. в связи с промышленным освоением ресурсов макрорегиона. В 1955 г. в Институте этнографии АН СССР был создан сектор по изучению социалистического строительства у малых народов Севера. К 1960 г. для Совета национальностей Верховного Совета СССР, Комиссии по проблемам Севера, Совета по изучению производительных сил при Президиуме АН СССР и др. структур его сотрудники подготовили ок. 30 записок по вопросам, касающимся малых народов Севера [Долгих, 2005, с. 160].
В 1963 г. в ходе формирования Сибирского отделения АН СССР при Объединенном ученом совете создается секция по проблемам развития национальных отношений, а в 1968 г. – сектор комплексных исследований проблем развития народов Сибири Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В АН СССР была разработана комплексная программа, нацеленная на оценку социального и экономического развития народностей Севера [Программа координации…, 1987]. Ее содержание определили «разработка концепции развития народностей Севера в условиях НТП на перспективу до 2010 г., определение стратегии и тактики управления процессами интернационализации, формирование предложений для практики планирования и регулирования социальных процессов» [Нивхи Сахалина…, 1988, с. 17]. В рамках реализации этого проекта в 1968–1987 гг. проводилось масштабное обследование коренного населения Амура, Якутии, Читинской, Сахалинской, Камчатской обл. и зоны БАМа [Культура народностей Севера..., 1986; Бойко, 1988; и др.]. По итогам работ были сделаны выводы о противоречивом характере урбанизации в среде коренных народов: рост значения городов в их жизни сопровождался обострением социально-экономических и этнокультурных проблем [Культура народностей Севера, 1986; Бойко, Попков, 1987; и др.].
С целью комплексного изучения данной проблематики были созданы в 1985 г. Институт проблем освоения Севера СО РАН, в 1991 г. – Институт проблем малочисленных народов Севера СО РАН и др. структуры.
В 2000-е гг. возрастающая роль Арктики и Субарктики в формировании стратегий социально-экономического развития России предопределила новый виток интереса к изучению коренного населения северных территорий. В этом контексте проблема урбанизации вновь оказалась в центре внимания. Она была акцентирована в проектах Института антропологии и этнологии РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и др. Методология исследований выстраивалась с учетом не только российского, но и мирового опыта. В ходе их реализации была подготовлена серия публикаций, в которых определялся характер урбанизации коренных жителей Сибири [Перспективы и риски…, 2014; «Ресурсное проклятие»…, 2019; Российская Арктика…, 2016; и др.].
В новейших работах отечественных этнографов урбанизация Сибири и Дальнего Востока рассматривалась в широком историческом и социальном контексте. Однако комплексные сравнительные исследования, направленные на выявление сущности урбанизационных процессов различных народов Сибири и Дальнего Востока, не проводились.
Цель исследования – определить факторы, этапы, темпы урбанизации коренных народов Сибири и Дальнего Востока в XX – начале XXI в., а также причины и последствия их миграции в город. Основу исследования составляют полевые материалы В.В. Николаева и И.В. Октябрьской, нормативные документы, опубликованные результаты социологических опросов, а также данные Всероссийских (1897, 2002, 2010 гг.) и Всесоюзных (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) переписей населения и другие источники, в частности, публикации, в которых приведены статистические сведения об урбанизации коренных народов Сибири и Дальнего Востока [Богоявленский, 2012; Нагнибеда, 1917; Степанов, 2008].
Факторы, механизмы и этапы урбанизации
Исторические исследования, опирающиеся на широкий круг источников, позволяют говорить о специфике процессов урбанизации в Сибири. Появление на данной территории в XVII–XVIII вв. городов положило начало первому этапу урбанизации. Их историю в самых общих чертах определяла постепенная трансформация военных поселений в административные и торгово-промышленные центры с большой долей сельского (крестьянского) населения [Города Сибири…, 1978].
Согласно переписи 1897 г., в городах Сибири проживало 327 860 чел. – 9,2 % от всего населения; самыми крупными были города Томск (52 210 чел.) и Иркутск (51 473 чел.); в структуре народонаселения большинства городов русские составляли 87,9 %; коренные народы были представлены в Улале (17 % алтайцев), Усть-Абаканске (6,3 % хакасов) и т.д. [Бахрушин и др., 1929, с. 705–706, 717].
Оценка социально-исторического контекста сквозь призму законов урбанистики дает возможность выделить факторы, определявшие в этот период перспективы формирования категории «горожан» из числа коренных народов. Среди них – локализация поселений в зонах их компактного расселения, возможность адаптации традиционной культуры к формирующейся городской среде, система и интенсивность контактов, в ходе которых будущие города генерировали экономические выгоды. Городская инфраструктура превращалась в средство поддержки экономического роста, достижения социальной мобильности и благосостояния народонаселения Сибири. Городские поселения универсально формировали пространство социокультурных инноваций.
Предпосылками урбанизации коренных народов Сибири являлись процессы социальной трансформа- ции – на протяжении XVIII–XIX вв. формировались этнические страты, адаптированные к условиям существования в имперском пространстве. Практики администрирования Российского государства и прозелитизм Русской православной церкви создавали предпосылки и ресурсы социальной мобильности аборигенного населения. В конце XIX в. в Сибири действовали Алтайская, Киргизская, Иркутская, Забайкальская, Камчатская, Обдорская, Сургутская, Енисейская, Якутская миссии, которые были призваны проповедовать православную веру на аборигенных языках. B 1860–1870-е гг. миссии были объединены в «Православное миссионерское общество»; на его средства в 1909 г. в России работали более 800 школ (с преподаванием на русском и аборигенных языках) и обучались 19 тыс. детей [Нечаев, 2014, с. 141; Николаев, 2009]. И хотя принятие христианства не было повсеместным, оно оказывало определенное влияние на этнокультурные и этносоциальные процессы у коренного населения. Однако рост числа горожан среди коренных жителей Сибири до начала ХХ в. оставался незначительным, т.к. практики управления сибирскими территориями, формировавшиеся с конца XVI в., предполагали прежде всего устойчивость аборигенных сообществ в их традиционных способах существования. Они включали систему налогообложения (обложение ясаком), принципы этноконфессионального районирования, минимальное вмешательство во внутренние дела, поддержку внутреннего самоуправления, обеспечение защиты от внешних врагов. Российское государство, будучи заинтересованным в доходах от ясака, расширяло подвластные земли, стремилось сохранять численность автохтонов, статус и территории традиционного природопользования податного коренного населения [Скобелев, 1999].
Патернализм, закрепленный Уставом об управлении инородцев 1822 г., до начала ХХ в. определял преимущественно консервативные тренды национальной политики на местах. В процессы модернизации были вовлечены только отдельные аборигенные сообщества, причастные в силу исторических обстоятельств к развитию административной, транспортной и торговой инфраструктуры Сибири. К началу ХХ в. сформировалась значительная городская прослойка среди сибирских татар, бурят, якутов [История Бурятии, 2011, с. 199–204; Корусенко, Томилов, 2011, с. 178–183; Па-ликова, 2010, с. 28–40; Петров, 1990; и др.].
Особенно показателен пример Якутии: ее города как административные и торгово-транспортные центры развивались медленно; изначально по внешнему виду, устройству и социальному составу они мало отличались от сельских населенных пунктов. В 1897 г. в Якутии насчитывалось пять городов; население Якутска составляло 6 535 чел. В 1926 г. в этом городе проживали 10 558 чел., в т.ч. 3 260 якутов, в Олекминске – 2 285 чел., в т.ч. 231 якут, в Вилюйске – 1 334 чел., в т.ч. 921 якут. В общей сложно сти численность горожан Якутии в 1926 г. составляла 15 698 чел. – 5,7 % от общей численно сти населения, среди них якуты – 32,1 % [Бахрушин и др., 1929, с. 723].
С установлением советской власти в Сибири решением проблем коренных народов занимался Комитет Севера при Президиуме ВЦИК, который действовал в 1924–1935 гг. и был ориентирован на «содействие планомерному устроению малых народностей Севера» [Декрет ВЦИК…]. В организационно-административной работе он опирался на Временное положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР от 1926 г. Введенные в нем нормы формировали советскую модель патернализма; они подспудно создавали предпосылки урбанизации, в т.ч. практики этнополитического и этнотерритори-ального районирования, «коренизацию» управленческого аппарата, адаптацию к условиям Севера культурно-просветительских и образовательных структур [Доброва-Ядринцева и др., 1931, с. 865–872].
Рост числа горожан из среды коренных народов в этот период определялся изменением статуса поселений в ходе образования национальных административных структур: Бурят-Монгольской а.о. в 1921 г., Якутской АССР в 1922 г., Ойратской а.о. в 1922 г., Горно-Шорского национального района в 1926 г., Хакасской а.о. в 1930 г., Остяко-Вогульского национального округа в 1930 г. и т.д. В городах – столицах этих автономий, статус которых со временем менялся, увеличивался слой жителей из числа коренных народов – бурят, якутов, алтайцев, хакасов, шорцев и др.
Часть исторических городов становилась индустриальными центрами. Политика модернизации советского государства приводила к появлению в сибирских и дальневосточных регионах промышленных городов и поселков городского типа (пгт), притягивавших коренное население новыми условиями труда и быта. В города люди бежали, спасаясь от голода, раскулачивания и репрессий [Бойко, Попков, 1987, с. 95].
Характерным для этого периода стало развитие ситуации в Кузнецком крае. Он активно осваивался с XVII в.; тогда в границах расселения телеутов и шорцев появились новые, в т.ч. городские, поселения, например, основанный как острог в 1618 г. Кузнецк Сибирский (с 1931 г. – г. Новокузнецк).
В начале ХХ в. в Кузнецком у. (с 1948 г. Кемеровская обл.) было четыре города. К концу 1930-х гг. в регионе насчитывалось 12 городов. Количество поселений в статусе городов и пгт ускоренными темпами увеличивалось и далее. При этом коренные обитатели оставались преимущественно сельскими жителями, хотя часть их поселений располагалась на окраинах новых городов. Согласно данным переписи 1926 г., среди 1 898 телеутов только 7 чел. были горожанами, из 12 601 шорца – 83. С 1939 по 2002 г. телеуты учитывались в составе алтайцев. Согласно переписи 1970 г., более 50 % шорцев проживали в городах (см. таблицу).
Анализ источников позволяет считать началом второго этапа урбанизации 1950–1960-е гг. Этот этап был связан с масштабными социально-экономическими преобразованиями на востоке СССР – разработкой месторождений природных ископаемых и энергоресурсов, индустриальным развитием территорий, реорганизацией на промышленной основе сельского хозяйства; происходили ликвидация «неперспективных» сел и укрупнение административных центров [Слезкин, 2008, с. 383–385].
В 1957 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера», в котором отмечалось, что в результате социалистических преобразований народы Севера «в основном перешли на оседлость, обеспечили подъем хозяйства, вырастили значительную группу своей интеллигенции, располагают сетью школ, лечебно-профилактических и культурно-просветительных учреждений и в ряде мест построили благоустроенные поселки, имеют большие возможности для дальнейшего развития своей экономики и культуры» [Постановление…, 1957]. На этой основе должны были развиваться культура и экономика Сибири.
На деле санкционированная властью модернизация Севера 1950–1970-х гг. предусматривала изъятие в пользу сырьевых предприятий территорий традиционного природопользования и нивелировку многих сфер традиционной культуры жизнеобеспечения; распространенной была практика «административного градообразования», когда статус пгт присваивался крупным сельским административным центрам; необратимый характер приобрел переход на оседлый образ жизни (инициированный еще в XIX в.) [Кривоногов, 2017; Попов, 2005, с. 217; и др.]. Политика укрупнения поселений сопровождалась организацией интернатов. Обучение в них сформировало поколения, отчужденные от этнических традиций и родного языка [Лярская, 2003, с. 16]. Это определило контекст социальной мобильности коренных жителей северных территорий и способствовало их миграции в города.
В 1950–1970-е гг. миграции по схеме «село–город» стали характерны для большинства коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Благодаря развитию транспортной инфраструктуры города становились ближе. Они предлагали качественно иной уровень жизни, удовлетворение растущих потребностей сельских жителей [Бойко, 1977, с. 182]. Рабочая и учебная миграция постепенно становилась ведущим фактором урбанизации народов Сибири и Дальнего Востока. На Дальнем Востоке, например, в ходе индустриализации с 1940 по 1950 г. появились 24 новых города, в т.ч. 15 на о-ве Сахалин, с 1960 по 1990 г. – 10 городов [Власов, 2013, с. 104–105].
Как происходило перераспределение коренного населения в регионе, описал В.И. Бойко на примере г. Амурска Хабаровского края, который был основан в 1958 г. в связи со строительством Амурского целлюлозно-картонного комбината; в 1962 г. в статусе рабочего поселка он стал районным центром, в 1973 г. обрел статус города. Город был построен в кратчайшие сроки на месте нанайского с. Падали-Восточное. «Перед нанайцами этого села в то время был выбор: остаться на строительстве нового города или переселиться в другое место. Значительная часть переселилась в новое благоустроенное село Омми... Но уже в первые пять лет каждая шестая семья и практически вся молодежь переселились в Амурск» [Бойко, 1977, с. 206–207].
По результатам организованных в 1968–1987 гг. Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР масштабных социологических обследований народов нижнего Приамурья, Якутии, северных районов БАМа, Читинской, Сахалинской, Камчатской обл., а также других изысканий, проводившихся в 1990-х гг. под руководством В.И. Бойко, были сделаны следующие выводы: тактика государственного управления социально-экономическим развитием коренных народов в советский период базировалась на концепции их концентрации в крупных (стационарных) сельских поселениях; активизировался процесс преобразования сел в пгт; с 1959 по 1970 г. в большинстве северных регионов произошло удвоение городского населения, в структуре миграций из села в город преобладала молодежь, ключевыми факторами урбанизации выступали возросший социокультурный уровень коренных сообществ и рост социально-экономического потенциала регионов; очаговый характер освоения определил ограниченное влияние городов на близлежащие села; урбанизация не стала фактором рассеивания этнической общности, а напротив, часто способствовала интенсификации внутриэтнических связей и росту этнического самосознания [БАМ…, 1979; Бойко, 1973, 1977; Бойко, Васильев, 1981; Бойко, Попков, 1987; Винокурова, 1992; Мархинин, Удалова, 1993; Нивхи Сахалина…, 1988; и др.].
Третий этап урбанизации был связан с комплексом этнокультурных и социально-экономических процессов 1990-х гг. Системный кризис привел к исходу населения из арктических городов России. С 1989 по 2016 г. десятки городов российской Арктики потеряли от 20 до 50 % населения. Деиндустриализация сопровождалась изменением ценностей, социокуль-
Динамика показателей урбанизации коренного
|
1979 |
1989 |
2002 |
2010 |
||||||||
|
Все население, чел. |
в т.ч. городское |
Все население, чел. |
в т.ч. городское |
Все население, чел. |
в т.ч. городское |
Все население, чел. |
в т.ч. городское |
||||
|
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
||||
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
546 |
195 |
35,7 |
702 |
267 |
30,0 |
540 |
172 |
31,9 |
482 |
155 |
32,2 |
|
60 015 |
10 928 |
18,2 |
70 777 |
13 630 |
19,3 |
67 239 |
13 897 |
20,7 |
67 380 |
16 027 |
23,8 |
|
352 646 |
122 775 |
34,8 |
421 380 |
178 337 |
42,3 |
445 175 |
194 562 |
43,7 |
461 389 |
217 134 |
47,1 |
|
5 053 |
742 |
14,7 |
6 945 |
1 572 |
22,6 |
7 261 |
1 334 |
18,4 |
7 885 |
1 840 |
23,3 |
|
1 370 |
394 |
28,8 |
2 481 |
956 |
38,5 |
3 180 |
1 194 |
37,6 |
3 193 |
1 245 |
39,0 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
2 293 |
1 297 |
56,6 |
1 927 |
566 |
29,4 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
8 |
4 |
50,0 |
4 |
4 |
100 |
|
1 122 |
206 |
18,4 |
1 113 |
219 |
19,7 |
1 494 |
406 |
27,2 |
1 219 |
317 |
26,0 |
|
7 879 |
2 223 |
28,2 |
9 242 |
2 778 |
30,1 |
8 743 |
2 765 |
31,6 |
7 953 |
2 917 |
36,7 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
3 114 |
1 704 |
54,7 |
2 892 |
1 400 |
48,4 |
|
7 563 |
2 721 |
36,0 |
8 474 |
3 934 |
46,4 |
11 432 |
5 919 |
51,8 |
12 269 |
7 028 |
57,3 |
|
10 516 |
3 880 |
36,9 |
12 023 |
4 783 |
39,8 |
12 160 |
3 702 |
30,4 |
12 003 |
3 518 |
29,3 |
|
867 |
98 |
11,3 |
1 278 |
360 |
28,2 |
834 |
165 |
19,8 |
862 |
315 |
36,5 |
|
504 |
158 |
31,4 |
622 |
250 |
40,2 |
567 |
164 |
28,9 |
513 |
155 |
30,2 |
|
29 894 |
4 564 |
15,3 |
34 665 |
6 193 |
17,9 |
41 302 |
7 844 |
19,0 |
44 640 |
9 543 |
21,4 |
|
4 397 |
2 077 |
47,2 |
4 673 |
2 383 |
51,0 |
5 162 |
2 483 |
48,1 |
4 652 |
2 374 |
51,0 |
|
1 198 |
694 |
57,9 |
915 |
444 |
48,5 |
686 |
338 |
49,3 |
596 |
287 |
48,2 |
|
3 565 |
703 |
19,7 |
3 612 |
934 |
25,9 |
4 249 |
786 |
18,5 |
3 649 |
773 |
21,2 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
2 769 |
252 |
9,1 |
3 608 |
255 |
7,1 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
276 |
110 |
39,9 |
274 |
114 |
41,6 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
9 611 |
4 271 |
44,4 |
6 779 |
1 133 |
16,7 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
2 399 |
115 |
4,8 |
3 712 |
300 |
8,1 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
2 650 |
1 142 |
43,1 |
2 643 |
1 198 |
45,3 |
|
763 |
161 |
21,1 |
731 |
104 |
14,2 |
837 |
138 |
16,5 |
762 |
98 |
12,9 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
1 565 |
150 |
9,6 |
1 965 |
357 |
18,2 |
|
166 082 |
37 327 |
22,5 |
206 629 |
65 983 |
31,9 |
243 442 |
107 850 |
44,3 |
263 934 |
129 035 |
48,9 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
4 442 |
7 |
0,2 |
1 858 |
4 |
0,2 |
|
1 551 |
416 |
26,8 |
2 011 |
775 |
38,5 |
1 657 |
425 |
25,7 |
1 496 |
375 |
25,1 |
|
... |
... |
... |
190 |
159 |
83,7 |
346 |
201 |
58,1 |
295 |
177 |
60,0 |
|
2 552 |
711 |
27,9 |
3 233 |
923 |
28,6 |
2 913 |
564 |
19,4 |
2 765 |
589 |
21,3 |
|
70 776 |
24 850 |
35,1 |
80 328 |
34 736 |
43,2 |
75 622 |
32 743 |
43,3 |
72 959 |
31 572 |
43,3 |
|
20 934 |
4 832 |
23,1 |
22 521 |
6 828 |
30,3 |
28 678 |
9 924 |
34,6 |
30 943 |
11 879 |
38,4 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
855 |
135 |
15,8 |
1 181 |
231 |
19,6 |
|
... |
... |
... |
1 511 |
834 |
55,2 |
1 087 |
366 |
33,7 |
1 002 |
396 |
39,5 |
|
14 000 |
2 015 |
14,4 |
15 184 |
2 176 |
14,3 |
15 767 |
3 402 |
21,6 |
15 908 |
3 808 |
23,9 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
656 |
54 |
8,2 |
355 |
26 |
7,3 |
|
16 033 |
10 626 |
66,3 |
16 652 |
12 293 |
73,8 |
13 975 |
9 939 |
71,1 |
12 888 |
9 353 |
72,6 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Эвенки |
38 805 |
151 |
0,4 |
29 666 |
1 576 |
5,3 |
24 710 |
3 272 |
13,2 |
25 149 |
3 846 |
15,3 |
|
Эвены |
2 044 |
0 |
0 |
9 698 |
166 |
1,7 |
9 121 |
571 |
6,3 |
12 029 |
2 036 |
16,9 |
|
Энцы |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
Эскимосы |
1 293 |
11 |
0,9 |
... |
... |
... |
1 118 |
331 |
29,6 |
... |
... |
... |
|
Юкагиры |
443 |
4 |
0,9 |
... |
... |
... |
442 |
86 |
19,5 |
615 |
208 |
33,8 |
|
Якуты |
240 709 |
5 288 |
2,2 |
242 080 |
16 892 |
7,0 |
236 655 |
40 408 |
17,1 |
296 244 |
62 372 |
21,0 |
*Сост. по: [Переписи населения…].
**По: [Кондратьева, Батуева, 2013, с. 195].
турной среды, перестройкой структуры хозяйствования [Бабурин, Земцов, 2015, с. 78; Замятина, Пилясов, 2017, с. 8]. Ввиду прекращения поставок продовольствия и горючего были ликвидированы многие пгт, что обусловило организованное перераспределение населения. Часть коренных жителей из пустеющих поселений в административном порядке были направлены в города [Коломиец, 2020, с. 208]. На протяжении 1990-х гг. разнонаправленная динамика абсолютных и относительных показателей урбанизации была характерна для многих народов Сибири и Дальнего Востока. Например, в Приамурье в этот период наметилось резкое сокращение населения в промышленных городах и пгт. На фоне спада экономики, деградации городских инфраструктур и распада совхозной системы у коренных народов региона обозначилась тенденция возвращения к традиционным ценностям и технологиям [Мальцева, 2018, с. 169].
Этническая динамика соотносилась с реформой местного самоуправления, начавшейся с 2003 г., когда произошла реорганизация сельских и городских поселений. Появился новый вид муниципальных образований – городские округа. Это вновь изменило характер урбанизации коренного населения Сибири и Дальнего Востока (см. таблицу ). В 1990– 2000-е гг. оставался поступательным процесс урбанизации у коренных народов, расселенных в зоне ресурсных (нефтегазовых) разработок – хантов, манси, ненцев. Начало урбанизации аборигенных сообществ севера Западной Сибири было связано с образованием в 1930 г. Ямало-Ненецкого и Остяко-Вогульского (с 1940 г. Ханты-Мансийского) национальных округов, которые в 1977 г. и 1978 г. соответственно приобрели статус автономных округов. Центром ЯмалоНенецкого окр. стало с. Обдорск (основано в 1595 г. как Обдорский острог), преобразованное в пос. Салехард и получившее статус города в 1938 г. Столицей Остяко-Вогульского окр. стал вновь построенный город, переименованный в 1940 г. в Ханты-Мансийск.
В 1920–1940-е гг. урбанизация коренного населения региона проходила медленно. Открытие нефти в 1953 г. дало мощный импульс этому процессу. Стратегия освоения и эксплуатации месторождений предполагала интенсивное развитие пгт и городов. К началу 1990-х гг. в ХМАО–Югре было 16 городов (к концу 2000-х гг. вместе с пгт – 40 городских населенных пунктов), в ЯНАО – 8 городов (к концу 2000-х гг. – 12). Численность городского населения за период нефтяного бума увеличилась многократно: к началу 2000-х гг. на Ямале она превысила 80 %, а в Югре – 90 % [Попов, 2005, с. 238]. Численность горожан среди манси с 1959 по 2010 г. возросла более чем в 10 раз, среди хантов – в 5 раз, среди ненцев – в 6 раз (см. таблицу).
На протяжении 1990–2000-х гг. для одних народов Сибири были характерны устойчивые темпы урбанизации, для других – заметное их снижение. Изменения показателей обусловливались этнополитическими процессами. Законы «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 1999 г. и «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 2000 г., распоряжения Правительства Российской Федерации 2006 г. «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» 2009 г. сформировали нормативные характеристики коренных малочисленных народов. Обозначенная в законодательстве связь социально-экономиче ских преференций с фактом традиционного расселения коренных народов получила отражение в динамичных изменениях численности горожан в их составе.
Таким образом, возникновение в XVII–XVIII вв. в Сибири в ходе ее присоединения к Российскому государству городов положило начало первому эта-
Окончание таблицы
Масштабы, особенности, итоги урбанизации
Решающими факторами развития урбанизационных процессов у народов Сибири были поддержанные государством программы социально-экономического развития территорий. Темпы и масштабы урбанизации у различных аборигенных сообществ изначально варьировались. Согласно переписи 1926 г., уровень их урбанизации был крайне низким. По результатам обследования 1939 г., лидерами урбанизации стали хакасы (12,6 % горожан от общей численности) и шорцы (11,2 %). В 1959 г. активно переезжали в город шорцы (42,3 %), орочи (32,2 %), эскимосы (29,6 %), алеуты (20,2 %); в 1970 г. – шорцы (51,1 %), орочи (41,8 %), нивхи (33,9 %), юкагиры (33,8 %); в 1979 г. – шорцы (66,3 %), орочи (57,9 %), нивхи (47,2 %); в 1989 г. – уйльта (83,7 %), шорцы (73,8 %), чуванцы (55,2 %), нивхи (51,0 %), орочи (48,5 %). Вместе с тем уже перепись 1970 г. показала обратимость процесса урбанизации коренного населения. Численность городских эскимосов сократилась с 29,6 % в 1959 г. до 27,5 в 1970 г., 22,1 % в 1979 г., нганасан – с 18,7 в 1970 г. до 11,3 % в 1979 г., чукчей – с 17,7 в 1970 г. до 14,3 % в 1989 г., юкагиров – с 33,8 в 1970 г. до 30,5 % в 1979 г., эвенков – с 21,5 в 1979 г. до 20,8 % в 1989 г., тофала-ров – с 21,1 в 1979 г. до 14,2 % в 1989 г.
Среди высокоурбанизированных (по формальным критериям) народов в 2010 г. оказались камчадалы (56,6 % в 2002 г., 29,4 % в 2010 г.), кереки (100 % в 2010 г.) и кумандинцы (54,7 % в 2002 г., 48,4 % в 2010 г.). Высокий уровень урбанизации сохранили нивхи (51,0 %), манси (57,3 %), уйльта (60,0 %) и шорцы (72,6 %).
Деурбанизация в 1990–2000-е гг. отмечалась у двух десятков автохтонных сообществ; у камчадалов, сибирских татар и уйльта доля городского населения снизилась более чем на 20 %. При этом изменение относительных показателей не всегда коррелировало с абсолютными данными.
В межпереписной период 1926–1939 и 1970– 1979 гг. хакасы, а также ительмены и, возможно, камчадалы, чуванцы и энцы в 1959–1970 и 1979–1989 гг., удэгейцы – в 1939–1959 и 1979–1989 гг. пережили две волны интенсивной урбанизации. Нганасаны прошли три такие волны: в 1959–1970, 1979–1989 и 2002– 2010 гг. У орочей и шорцев первая волна была более масштабная и пришлась на 1939–1959 гг., а вторая – более слабая – на 1970–1979 гг.
Сравнительно длительная интенсивная урбанизация в 1939–1979 гг. была характерна для ряда народов Приамурья – нанайцев, нивхов, орочей и негидаль-цев (до 1959 г.) У остальных народов фиксировался непродолжительный интенсивный рост городского населения: в 1939–1959 гг. – у эскимо сов, в 1959– 1970 гг. – у коряков, тофаларов, эвенов и юкагиров, в 1959–1979 гг. – у манси, в 1970–1979 гг. – у алеутов и ульчей, в 1989–2002 гг. – у тувинцев и, вероятно, челканцев, в 2002–2010 гг. – у тубаларов. У куман-динцев активный период миграции в города пришелся на 1959–1979 гг. [Николаев, Назаров, 2021, с. 151].
Размеренная, постепенная урбанизация была характерна для многочисленных народов – алтайцев, бурят и якутов, а также для получивших в 2000 г. статус коренных малочисленных народов долган, кетов, ненцев, селькупов, телеутов, хантов, чукчей и эвенков (см. таблицу).
Низкий уровень урбанизации на протяжении ХХ в. сохранялся у сойотов, сибирских татар, телен-гитов, тофаларов, тубаларов, челканцев и чулымцев, а также тувинцев-тоджинцев, у которых был самый низкий показатель – 0,2 %. Территории их традиционного проживания не представляли интереса с точки зрения добычи природных ископаемых и были удалены от промышленных объектов.
Анализ статистики по Сибири и Дальнему Востоку показал, что лидерами урбанизации к 1989 г. выступали: Ханты-Мансийский а.о. (91,0 % горожан от общей численности населения), Кемеровская (87,3 %), Сахалинская (82,3 %), Магаданская (80,5 %), Камчатская (81,5 %), Иркутская (80,5 %) обл., Хабаровский край (78,4 %). Очаговая индустриализация в Магаданской и Камчатской обл. не сопровождалась высокими показателями урбанизации у эвенов, коряков, ительменов. При этом оценка динамики численности горожан по отношению к общей численности населения не является единственным критерием урбанизации, поскольку количественные показатели не соответствуют качественным характеристикам городского населения коренных народов Сибири и Дальнего Востока [Пивоваров, 2010, с. 230–235].
Исследователи образа (стиля) жизни, который предполагает совокупность устойчиво воспроизводимых образцов поведения, выделяют различные типы урбанизации. Анализ авторских полевых и опубликованных материалов показывает, что у многих аборигенных сообществ переход в категорию горожан не сопровождался изменениями жизненных ценностей, особенно на начальных этапах урбанизации. По оценкам историков, ряд городов Сибири (особенно в первой половине ХХ в.) нельзя было назвать городами в полном смысле этого слова в силу низкого уровня развития промышленности, транспортной и социокультурной инфраструктуры. Процессы, протекавшие на востоке СССР в первой половине ХХ в., особенно в периоды форсированной индустриализации, более всего соответствовали модели квазиурбанизации [Ефимова, 2014, с. 9; Исупов, 2013]. Обретение статуса горожанина коренными жителями Сибири часто происходило в результате смены статуса поселения – села превращались в пгт и города. Центрами притяжения сельского коренного населения становились ближайшие города. Миграции в основном ограничивались регионом традиционного проживания; лишь во втором поколении происходил выход за его пределы [Николаев, 2018, с. 143]. Чаще всего бывшие сельчане селились в пригородах или на окраинах городов; традиционные поселения они использовали как летние резиденции. Приобретая стационарное жилье в городах и пгт, они рассматривали его как место временного пребывания и продолжали вести традиционное хозяйство, которое определяло их образ жизни и основные формы занятости. Эти тенденции оставались актуальными и во второй половине ХХ – начале XXI в. [Волжанина, 2009, с. 355–357; Лярская, 2016, с. 63; Пивнева, 2018, с. 110–113; Поворознюк, 2011, с. 108; и др.].
Анализ страты «новых горожан» Сибири, основанный на полевых материалах авторов и данных исследований в различных регионах, позволяет сделать выводы о сложной социальной дифференциации аборигенного населения: об отсутствии строгого деления между группами сельских жителей, сохраняющих традиционный образ жизни, населением поселков, не занятым в традиционном хозяйстве, и жителями городов. Отсутствие четкого городского самосознания у представителей коренных народов объясняют форсированными темпами урбанизации, актуальной (внутриэтнической) системой социальных и экономических связей, ориентированных на родственные и эт-нолокальные сообщества, на ценности традиционной культуры, которая рассматривается как основа консолидации и самосохранения коренных народов Сибири [Лярская, 2016; Октябрьская, Самушкина, Николаев, 2021; Пивнева, 2018].
Важными индикаторами процессов урбанизации в среде коренного населения Сибири являются данные об образовании и источниках средств существования. Еще в 1970–1980-е гг. исследователи обращали внимание на численность незанятого населения среди горожан – представителей коренных народов. Так, «среди эвенков БАМа в 1976 г. и Читинской области в 1982 г. более 14 % трудоспособного населения не было занято в общественном производстве» [Бойко, Попков, 1987, с. 102].
По материалам переписи 2010 г., низкие показатели трудовой активности были характерны для тофаларов – 18,8 % от общей численности, тувинцев – 22,3, нганасан – 22,8, негидальцев и уйльта – 24,0 %. Подсобное хозяйство оставалось важным подспорьем у тофала-ров – 15,8 %, теленгитов – 9,9, телеутов и чулымцев – 9,1, тубаларов – 8,7 %. Теленгиты (51,0 %), нганасаны (46,6 %), негидальцы (44,7 %), ульчи (42,3 %), кеты (41,6 %), энцы (41,3 %) рассчитывали в основном на помощь государства, тофалары (37,5 %), сойоты (37,4 %), манси (36,2 %), тувинцы (36,0 %), долганы (35,8 %) – на помощь сородичей, алименты и т.д. Эти данные позволяют заключить, что далеко не все коренные народы были успешно интегрированы в городскую среду, даже при высоких количественных параметрах. Качественным показателем урбанизации является уровень образования и социальной мобильности. Так, согласно переписи 2010 г., в городе проживали уйльта с высшим образованием 100 %, со средним – 55,5, шорцев – 86,8 и 72,6, манси – 79,4 и 53,2 %. Аналогичная ситуация была характерна и для слабоурбанизированных на- родов, например, для сойотов – 13,2 и 5,2 %, теленги-тов – 17,1 и 5,8, челканцев – 39,2 и 12,7 %. Совершенствование системы образования, профессиональной подготовки и модернизация социальных структур в целом определяли перспективы процессов урбанизации коренных народов Сибири.
Тенденции деурбанизации в их среде были сопряжены с государственной политикой России по защите прав и традиционного образа жизни народов Севера. Льготы для представителей малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного природопользования и занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности, предусматривались Налоговым, Лесным, Водным и Земельным кодексами Российской Федерации.
За последние 15 лет в Российской Федерации были реализованы несколько федеральных, а также многочисленные региональные целевые программы, в которых актуализация традиционных видов и форм жизнедеятельности выступала условием устойчивого социально-экономического развития малочисленных народов Севера. Эта стратегия была системно изложена в «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 2009 г. [Распоряжение…, 2009]. Патернализм и поддержка аутентичных культур сохранили свое значение в качестве приоритетов в выстраивании диалога государства с коренными народами Сибири и Дальнего Востока в начале XXI в.
Стандарты модернизации обозначены в стратегиях социально-экономического развития сибирских регионов. Так, принятым в 2018 г. законом «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» (с изменениями на 18 июня 2020 г.) было объявлено создание условий для утверждения ключевой ценности государства – человека. Это предполагает достижение высокого уровня жизни, организацию эффективного управления территориями, развитие конкурентных отраслей несырьевой экспортно-ориентированной экономики при сохранении культурного многообразия и укреплении гражданской идентичности и единства народов Республики Саха (Якутия) [Закон…, 2018].
Опора на традиции при формировании перспектив модернизации определяет особенности процессов урбанизации народов Сибири и Дальнего Востока на ближайшие десятилетия.
Заключение
На основе проведенного анализа можно выделить три этапа урбанизации коренных народов Сибири и Дальнего Востока: до середины ХХ в., 1950–1980-е гг., с 1990-х гг. по настоящее время. Следует признать, что ведущим фактором урбанизации стала политика патернализма, проводимая государством на протяжении всего ХХ в. Административно-политические и социально-экономические преобразования в регионах Сибири предопределили этнокультурное сближение коренного и пришлого населения, системные трансформации аборигенных сообществ с изменением моделей их жизнедеятельности и перемещением в город. Решающее значение в ускорении процессов урбанизации к концу XX в. имело промышленное освоение Сибири – разработка энергетических ресурсов, индустриализация, формирование транспортной инфраструктуры. Возможности сохранения традиций при активных процессах модернизации определили актуальные проекты коренных народов Сибири на ближайшие десятилетия. Стратегическое планирование в этой сфере стало возможным при активном участии Российского государства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-111-50364.
Список литературы Урбанизация коренных народов Сибири и Дальнего Востока (XX - начало XXI века)
- Бабурин В.Л., Земцов С.П. Эволюция системы городских поселений и динамика природных и социально-экономических процессов в российской Арктике // Региональные исследования. – 2015. – № 4. – С. 76–83.
- БАМ и народы Севера. – Новосибирск: Наука, 1979. – 179 с.
- Бахрушин С.В., Петров А.И. и др. Города // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск: Сиб. краев. изд-во, 1929. – Т. I. – С. 702–724.
- Богоявленский Д.Д. Перепись 2010: этнический срез // Демоскоп. – 2012. – № 531/532. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0531/tema02.php (дата обращения: 18.05.2021).
- Бойко В.И. Опыт социологического исследования проблем развития народов Нижнего Амура. – Новосибирск: Наука, 1973. – 211 с.
- Бойко В.И. Социальное развитие народов Нижнего Амура. – Новосибирск: Наука, 1977. – 278 с.
- Бойко В.И. Социально-экономическое развитие народностей Севера. Программа координации исследований. – Новосибирск: Наука, 1988. – 320 с.
- Бойко В.И., Васильев Н.В. Социально-профессиональная мобильность эвенков и эвенов Якутии. – Новосибирск: Наука, 1981. – 175 с.
- Бойко В.И., Попков Ю.В. Развитие отношения к труду у народностей Севера при социализме. – Новосибирск: Наука, 1987. – 172 с.
- Будина О.Р., Шмелева М.Н. Этнографическое изучение города в СССР // СЭ. – 1977. – № 6. – С. 23–34.
- Винокурова У.А. Ценностные ориентации якутов в условиях урбанизации. – Новосибирск: Наука, 1992. – 144 с.
- Власов С.А. Становление и развитие городов на Дальнем Востоке России во второй половине XX в. // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2013. – № 2. – С. 103–111.
- Волжанина Е.А. Современные этносоциальные процессы среди ненцев Ямала в условиях промышленного освоения // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2009. – № 3. – С. 355–358.
- Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: Памяти В.П. Семенова-Тян-Шанского / Г.М. Лаппо, Д.Н. Лухманов, Т.Г. Нефедова, П.М. Полян, Р.А. Попов, С.Г. Сафронов, А. Титков, А.И. Трейвиш. – М.: Объединен. гум. изд-во, 2001. – 558 с.
- Города Сибири (эпоха феодализма и капитализма). – Новосибирск, Наука, 1978. – 335 с.
- Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 02.02.1925 «Об утверждении положения о Комитете содействия народностям северных окраин при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета». – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2342.htm (дата обращения: 18.05.2021).
- Доброва-Ядринцева Л. и др. Комитет содействия малым народностям Севера при Президиуме ВЦИК // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск: ОГИЗ, Зап.- Сиб. отд-ние, 1931. – С. 865–872.
- Долгих Б.О. О положении малых народов Севера и о мероприятиях по подъему их хозяйства, культуры и улучшению быта // Этнологическая экспертиза: Народы Севера России. 1959–1962 годы. – М.: ИЭА РАН, 2005. – С. 155–180.
- Ефимова Е.А. Региональные аспекты урбанизации в России // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – Т. 12, вып. 43. – С. 2–12.
- Закон Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 г. 2077-З № 45-VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г.» (с изменениями на 18.06.2020 г.). – URL: http://docs.cntd.ru/document/550299670 (дата обращения: 24.05.2021).
- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Новое междисциплинарное научное направление: арктическая региональная наука // Регион: Экономика и Социология. – 2017. – № 3. – С. 3–30.
- История Бурятии: в 3 т.– Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. – Т. II: XVII – начало XX в. – 624 с.
- Исупов В.А. Квазиурбанизация в сталинской стратегии модернизации Сибири: вторая половина 1920-х – 1930-е гг. // Региональные аспекты цивилизационного развития российского общества в XX столетии: проблемы индустриализации и урбанизации. – Новосибирск: Параллель, 2013. – С. 238–245.
- Исупов В.А. Урбанизация Западной Сибири: взгляд историка // ЭКО. – 2018. – № 7. – С. 7–22.
- Колбина Е.О., Найден С.Н. Эволюция процессов урбанизации на Дальнем Востоке России // Пространственная экономика. – 2013. – № 4. – С. 44–69.
- Коломиец О.П. Особенности современных миграционных процессов на Крайнем Северо-Востоке России (Чукотский вариант) // Власть и управление на Востоке России. – 2020. – № 4. – С. 207–214.
- Кондратьева В.В., Батуева И.Б. Численность и расселение татар на территории Бурятии // Вестн. Челяб. гос. академии культуры и искусств. – 2013. – № 3. – С. 194–197.
- Корусенко С.Н., Томилов Н.А. Татары Сибири в XVIII – начале ХХ в.: расселение, численность и социальная структура // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – № 2. – С. 177–185.
- Кривоногов В.П. Влияние урбанизации на этнические процессы коренных народов Средней Сибири // Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и перспективы. – Красноярск: Изд-во Сиб. федерал. ун-та, 2017. – С. 31–33.
- Культура народностей Севера: традиции и современность / отв. ред. В.И. Бойко. – Новосибирск: Наука, 1986. – 270 с.
- Лярская Е.В. Северные интернаты и трансформация традиционной культуры (на примере ненцев Ямала): авто-реф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2003. – 24 с.
- Лярская Е.В. «Кому-то тоже надо и в городе жить...»: некоторые особенности трансформации социальной структуры ненцев Ямала // ЭО. – 2016. – № 1. – С. 54–70.
- Мальцева О.В. Нанайцы в промышленном районе Приамурья: модель освоения пространства и поиск идентичности // ЭО. – 2018. – № 1. – С. 161–177.
- Мархинин В.В., Удалова И.В. Этнос в ситуации выбора будущего: по материалам социологического исследования образа жизни хантов, ненцев, манси Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. – Новосибирск: Наука, 1993. – 208 с.
- Нагнибеда В.Я. Томская губерния: статистический очерк. – Томск: [Тип. В.М. Перельман], 1917. – 31 с.
- Нечаев М.Г. Деятельность Православного миссионерского общества на Урале // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 2, ч. II. – C. 140–144.
- Нивхи Сахалина: современное социально-экономическое развитие / отв. ред. В.И. Бойко. – Новосибирск: Наука, 1988. – 224 с.
- Николаев В.В. Христианизация коренного населения предгорий Северного Алтая // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – 2009. – № 3. – С. 213–223.
- Николаев В.В. Миграция кумандинцев из села в город в начале XXI века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 142–147.
- Николаев В.В., Назаров И.И. Урбанизация коренного населения Алтая в XX – начале XXI века (на примере кумандинцев города Бийска) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 149–162.
- Октябрьская И.В., Самушкина Е.В., Николаев В.В. Коренные малочисленные народы в современном этнополитическом пространстве Республики Алтай // Урал. ист. вестн. – 2021. – № 2. – С. 101–109.
- Паликова Т.В. Города Забайкалья второй половины XIX – начала XX в.: социальное, экономическое, культурное развитие. – Улан-Удэ: Бурят. гос. ун-т, 2010. – 312 с.
- Переписи населения Российской империи, СССР, 15 новых независимых государств // Демоскоп. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/census_types.php?ct=6 (дата обращения: 05.12.2020).
- Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири / отв. ред. В.В. Кулешов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. – 367 с.
- Петров П.П. Города Якутии 1861–1917 гг. – Якутск: Якут. кн. изд-во, 1990. – 124 с.
- Пивнева Е.А. Северный город как этнографическое поле: поиск новых измерений // Поле как жизнь: к 60-летию Северной экспедиции ИЭА РАН. – М.; СПб.: Нестор-История, 2017. – С. 225–239.
- Пивнева Е.А. «Но дискомфорт мы все-таки ощущаем»: обские угры в процессах социокультурной адаптации к условиям города // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2018. – № 21. – С. 104–129.
- Пивоваров Ю.Л. Урбанизация России в ХХ веке: идеалы и реальность // География мирового развития. – М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2010. – С. 228–239.
- Поворознюк О.А. Забайкальские эвенки: социально-экономические и культурные трансформации в XX–XXI веках. – М.: ИЭА РАН, 2011. – 350 с.
- Попов Р.А. Урбанизированность регионов России во второй половине XX века // Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселение – миграции. – М.: Объединен. гум. изд-во, 2005. – С. 215–244.
- Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 16.03.1957 г. № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера». – URL: https://docs.cntd.ru/document/765714380 (дата обращения: 18.05.2021).
- Программа координации исследований «Взаимодействие научно-технического и социального прогресса: общее и особенное (гуманитарный аспект)» / отв. ред. В.И. Бойко. – Новосибирск: [Б. и.], 1987. – 268 с.
- Распоряжение Правительства РФ от 4.02.2009 г. № 132-р об утверждении «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». – URL: http://docs.cntd.ru/document/902142304?marker=6540IN (дата обращения: 24.05.2021).
- «Ресурсное проклятие» и социальная экспертиза в постсоветской Сибири: антропологические перспективы. – М.: Демос, 2019. – 312 с.
- Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение. – М.; СПб: Нестор-История, 2016. – 272 с.
- Скобелев С.Г. Коренные народы Сибири: опыт управления в Российской империи и СССР (XVII–XX вв.) // Сибирская заимка. – URL: https://zaimka.ru/skobelev-governance/ (дата обращения: 18.05.2021).
- Слезкин Ю.Л. Арктические зеркала России и малые народы Севера. – М.: Новое лит. обозр., 2008. – 512 с.
- Современные этнические процессы в СССР. – М.: Наука, 1977. – 562 с.
- Староверов В.И. Урбанизация // Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – С. 538–539.
- Стась И.Н. Этничность в процессе урбанизации России: современная историография проблемы // Проблемы и перспективы социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера. – Ханты-Мансийск: Формат, 2017. – С. 246–256.
- Стась И.Н. Исследования городских идентичностей в исторической урбанистике Сибири // Quaestio Rossica. – 2020. – Т. 8, № 5. – С. 1807–1821.
- Степанов В.В. Российский опыт этнической статистики коренных малочисленных народов Севера // Демоскоп. – 2008. – № 319/320. – URL: http://demoscope.ru/weekly/2008/0319/analit03.php (дата обращения: 18.05.2021).
- Урбанизация и малочисленные народы Севера Республики Саха (Якутия) / отв. ред. Р.И. Донской. – Якутск: Ин-т проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 2001. – 86 с.