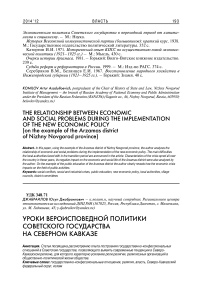Уроки вероисповедной политики советского государства на Северном Кавказе
Автор: Джабраилов Юсуп Джабраилович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению опыта построения государственно-конфессиональных отношений в Советском государстве, позволяющего выявить современные тенденции в Северо-Кавказском регионе, для которого характерно усиление роли религии, религиозных организаций в общественно-политической жизни общества.
Государственно-конфессиональные отношения, религия, власть, северо-кавказский федеральный округ, ислам
Короткий адрес: https://sciup.org/170167297
IDR: 170167297
Текст научной статьи Уроки вероисповедной политики советского государства на Северном Кавказе
Г осударственно-конфессиональнуюполитикуСоветскогогосударствавцелом, на наш взгляд, можно разделить на два этапа: 1) 1917–1985 гг. – период последовательной политики вытеснения религии из социальной сферы общества; 2) 1985–1990 гг. – период осмысления и сдвига в государственноконфессиональной политике в сторону реального обеспечения прав граждан на вероисповедание.
Этап I. В годы становления советской государственности в жизни мусульман Северного Кавказа религия занимала особое место. И вовсе не случайны заверения мусульманам со стороны властных структур, что все религиозные нормы будут сохранены – на них практически базировались все привычные нормы социального порядка.
В работе В.И. Ленина «Социализм и религия» говорилось о светском (не атеистическом) принципе устройства государства [Ленин 1968: 143]. Обозначенный принцип светскости по мере укрепления позиций советской власти в мусульманских регионах не находит практического воплощения в решениях советских чиновников. Постепенно устанавливается тотальный контроль над религиозными организациями, и они выводятся из поля влияния на социальные процессы.
В итоге декларация обеспечения принципа светскости, провозглашавшая равноправие как верующих, так и неверующих граждан, не получила подкрепление в реальной работе властных органов.
Причина агрессивной политики государства по отношению к религии объясняется самой идеологией марксизма-ленинизма, основанной на материализме, пронизывающем ее и не допускающем инакомыслия. Это означало, в свою очередь, что религия не могла вписаться в коммунистическое будущее страны и, соответственно, рассматривалась в качестве пережитка прошлого.
На основе этой идеологии разрабатывался масштабный проект мирового формата строительства коммунизма, а также не менее важный проект внутрисоюзного значения – становление «советского человека». Следовательно, иные идеологии, в т.ч. и религиозные доктрины, на наш взгляд, рассматривались как отклонения от этого пути. Не случайно все конфессии и религиозные организации рассматривались как органы буржуазной реакции, служащие для защиты эксплуатации и «одурманивания» рабочего класса.
Безусловно, в сложившихся условиях религия оказывается в роли основного идеологического конкурента новой советской власти и коммунистической партии. Не случайно для повышения легитимности государственной власти руководство страны прибегало к копированию религиозных технологий и методов в виде создания культов личности.
Недооценка со стороны властей значимости для населения северокавказских республик религии и ее институтов, исламской культуры, арабского языка вылилась в антирелигиозную политику, которая заключалась в преследовании и вытеснении духовенства из социальной жизни путем лишения его избирательных прав, упразднении шариатских судов, изъятии вакуфов из ведения мечетей и т.д.
Вот как данную политику власти отразил известный дагестанский исламовед М.В. Вагабов: «Хотя в те годы существовало общесоюзное конституционное законодательство о свободе совести и религиозных организациях, где предусматривались ограниченные гарантии прав и обязанностей верующих и конфессиональных общин, но, тем не менее, государственные чиновники и партийные функционеры сами публично нарушали соблюдение даже урезанных демократических возможностей; фактически объявляли войну религии, которая превратилась в масштабную политическую кампанию» [Вагабов 2004: 107].
В 30-е годы усиливается антирелигиозная политика государства в отношении верующих, особенно по отношению к общинам мюридов. Пронизывающий ислам суфизм в регионе в виде трех тарикатов (накшбандийский, шазалийский и кади-рийский) очень ревностно и строго придерживался не только внешних норм религии, но и внутренних, касающихся «качества веры» (нравственности, самосовершенствования и т.д.). Суфизм – путь богопознания в исламе под опекой духов- ного наставника, имеющего непосредственную связь с непрерывной силсилой (цепочкой) того или иного тариката, восходящего к пророку Мухаммаду (мир ему). Практически все тарикатские шейхи и их ученики (мюриды) перешли на нелегальное положение. Именно они стали в основном объектом массовых политических репрессий как самая активная и интеллектуальная часть духовенства.
С началом Великой Отечественной войны конфессиональная политика государства заметно изменилась, вернее, оно прекратило репрессивные методы в своей деятельности по отношению к верующим и религиозным организациям. В этот период, названный многими исследователями «атеистической оттепелью», 16 мая 1944 г. в г. Буйнакске было организовано Духовное управление мусульман Северного Кавказа.
Это политика, как позже выяснилось, была продиктована не столько осознанием необходимости изменения вектора государственно-конфессиональных отношений, сколько желанием сохранить социально-политическую стабильность в стране в условиях военного времени и с целью мобилизации гражданских и патриотических чувств советских мусульман.
Например, предоставленным мусульманам в 1944 г. правом организовать выезд на хадж (обязательное паломничество к святым местам Саудовской Аравии) мог воспользоваться только узкий круг лиц официального духовенства. Во всяком случае не будет ошибкой утверждение, что фактически воспользоваться данным правом смогли меньше 1% верующих из числа изъявивших такое желание.
Казалось бы, утверждение Духовного управления мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) должно было стать позитивным шагом в развитии государственноконфессиональных отношений. В условиях отсутствия единого религиозного органа, представляющего интересы всех мусульманских организаций региона, ни мусульманское духовенство, ни властные структуры не могли наладить систему взаимоотношений для разрешения многих религиозных и общественных вопросов.
Причина создания единого регионального муфтията, помимо стабилизации социально-политической ситуации в военный период, заключалась в том, что правительство нуждалось в международной поддержке со стороны мусульманского мира. А так как ДУМСК изначально не рассматривалось как самостоятельная структура, действующая в интересах верующих и координирующая их деятельность, то падения его авторитета среди верующих не пришлось долго ждать. Ведь оно вынуждено было претворять в жизнь указания государственных органов, проводивших, как правило, антирелигиозную политику.
Тем не менее руководство Коммунистической партии предпринимало попытки придать государству нейтральный характер при наблюдении за конфессиональной жизнью граждан. Так, в постановлении ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» 1 от 10 ноября 1954 г. указывалось на определенное различие в конфессиональной политике государства и партии, и вся ответственность за антирелигиозное направление политики перекладывается на плечи партии. Но формальность такого подхода проявляется в том, что в условиях однопартийной советской системы управления трудно провести грань между партийными и государственными структурами власти.
Чиновники, тонко чувствующие стратегию правящей партии и советского государства на секуляризацию религиозного сознания, не реагировали на замечания своих же коллег о случаях грубого нарушения прав верующих граждан и вытеснения религии из социального процесса. Компетенция религиозных общин была настолько сужена, что им приходилось порой несколько лет ждать разрешения властей на ремонт протекавшего чердачного перекрытия мечети. Местные и районные власти усматривали в этом нарушение советского законодательства о культах 2 .
Таким образом, среди незарегистрированных служителей культа на Северном
Кавказе оказались наиболее преданные религиозным ценностям и авторитетные алимы (суфийские шейхи). Председатель Совета по делам религиозных культов И.В. Полянский относил их к «политически реакционным элементам».
На самом деле, считает И.Х. Сулаев, «религиозный экстремизм» и «реакционность» большинства суфиев в Дагестане состояла в тайном обучении ими детей и молодежи Корану и основам ислама, расширении своей общины и вовлечении в нее новых мюридов. Они выступали против жесткого государственного контроля за духовной жизнью верующих [Сулаев 2009: 271].
Данную позицию исследователей подтверждают современные реалии конфессиональной сферы в республиках Северного Кавказа. В условиях создания независимых духовных управлений в каждой республике Северного Кавказа, когда выбранное мусульманскими общинами на местах духовенство перестало напрямую зависеть от властей, суфийские общины мирно уживаются с властями, они не представляют никакой угрозы ни общественному покою, ни конституционному строю.
Таким образом, мы можем утверждать, что в Советском государстве вероисповедная политика не строилась в соответствии с концепцией светского государства, а, скорее, сводилась становлению атеистического государства.
Этап II. С перестройкой, инициированной генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, в 1986–1991 гг. меняется курс советского партийного руководства, который сопровождается переменами в экономической и политической структурах государства.
В этот период проявляется осознание партийно-государственными органами необходимости изменения политики в сфере свободы совести. Определенные очертания новой государственной стратегии относительно места и роли религии в обществе проявились на праздновании 1000-летия крещения Руси. Глава государства М.С. Горбачев поздравил РПЦ с юбилеем и впервые затронул тему возрождения церкви, отметил ее духовную и нравственную роль в обществе. Как мы понимаем, процесс «перемирия» с религией не мог пройти гладко в сжатые сроки.
В эпоху «перестройки и гласности» в партии среди руководителей прошли острые дискуссии по вопросам свободы совести, которые повлияли на содержание общесоюзного закона «О свободе совести и религиозных организациях» от 1990 г. Но лишь федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) уже в полной мере позволил религиозным объединениям всех конфессий освободиться от всеобъемлющего государственного вмешательства в конфессиональные дела, а верующим – свободно исповедовать свою веру.
Современные проблемы в данной сфере во многом порождены отсутствием в Российском Федерации единой концепции государственно-конфессиональных отношений, приоритетов в вероисповедной политике государства. В их отсутствие анализ развития отношений между государством и религиозными объединениями неизбежно подвергается различным интерпретациям сугубо субъективистского характера.
Процессы, происходящие в сфере государственно-конфессиональных отношений, на Северном Кавказе носят не завершенный, а, скорее, поисковый характер. Исторический урок советского периода демонстрирует необходимость обеспечения прав на вероисповедание и несостоятельность политики, направленной на искоренение религии и религиозных объединений из общественной жизни. Задача же государственной конфессиональной политики состоит в том, чтобы консолидировать государственные и религиозные интересы и направить их в русло духовнонравственного оздоровления общества.
Список литературы Уроки вероисповедной политики советского государства на Северном Кавказе
- Вагабов М.В. 2004. Дагестанскому исламоведению -научную основу. Государство и религия в Дагестане.//Информационно-аналитический бюллетень № 1(6), Махачкала.
- Ленин В.И. 1968. Полное собрание сочинений. Т. 12.
- Сулаев И.Х. 2009. Государство и мусульманское духовенство в Дагестане: история взаимоотношений. 1917-1991 гг. Махачкала. 375 с.