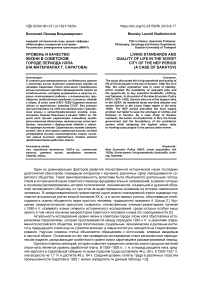Уровень и качество жизни в советском городе периода НЭПа (на материалах г. Саратова)
Автор: Блонский Леонид Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности уровня и качества жизни жителей советского города на примере Саратова. После окончания Гражданской войны население городов сформировало запрос на стабильность, которая выражалась в наличии хорошо оплачиваемой работы и возможности приобрести необходимые продукты питания, одежду и обувь. В годы нэпа (1921-1928) Саратов являлся одним из крупнейших городов СССР. Его жители прочувствовали на себе все катаклизмы Гражданской войны и катастрофического голода, охватившего Нижнее Поволжье в начале 1920-х гг. Период нэпа принес саратовцам очевидное продовольственное облегчение, не решив при этом проблемы, связанной с дефицитом одежды и обуви. На примере жителей Саратова мы можем сделать вывод, что в это время советская власть на деле утверждала основы пролетарского строя, назначая самые высокие зарплатные ставки именно представителям рабочего класса.
Нэп, городское население, 1920-е гг, советская власть, уровень жизни, продукты питания, одежда, обувь
Короткий адрес: https://sciup.org/149134018
IDR: 149134018 | УДК: 93/94:36+331.261921/19289 | DOI: 10.24158/fik.2019.8.17
Текст научной статьи Уровень и качество жизни в советском городе периода НЭПа (на материалах г. Саратова)
Один из доминирующих факторов развития отечественной исторической науки последних десятилетий обусловлен очевидным интересом к изучению различных сфер повседневности советского общества. Такая заинтересованность аспектами быта объясняется длительным господством в исторической науке советского периода фундаментальных направлений, в рамках которых в основном рассматривалась история политической, экономической, социальной и духовной областей человеческого общества, но при этом не акцентировалось внимание на истории «маленького человека». В западноевропейской гуманитарной науке анализ повседневной жизни индивида становится актуальным уже во второй половине ХХ в., а в числе первых ученых, обосновавших необходимость оценки обыденного мира простого человека, традиционно называют А. Шюца [1]. Крушение коммунистической идеологии позволило отечественным ученым-гуманитариям начиная с 1990-х гг. осваивать новые сегменты исторического исследования, среди которых особую нишу заняло в том числе изучение микроистории советского человека и мира его повседневности [2].
Актуальность исследования уровня жизни в советском городе эпохи нэпа обусловлена историческими параллелями, которые прослеживаются между периодом 1920-х гг. и реалиями современного российского общества, когда политические, социальные, экономические и духовные институты предыдущего этапа еще не утратили влияния, а новые институты находятся на стадии формирования. Научная новизна статьи объясняется обращением к источникам, впервые вводимым в научный оборот. Основными из них при проведении исследования стали региональные периодические издания, раскрывающие особенности уровня жизни саратовцев в рассматриваемый период.
Одной из главных категорий, которая позволяет определить качество жизни городских жителей эпохи нэпа, является уровень заработной платы. В 1925–1926 гг., т. е. в период расцвета нэпа, средняя зарплата в Саратовской губернии по всем отраслям труда составляла 44 р. 09 к. К 1926–1927 гг. она возросла на 7,7 % и достигла 48 р. 64 к. Средний уровень оплаты труда в различных отраслях промышленности Саратова в 1925 г. можно определить по данным таблицы 1 [3].
Таблица 1 – Данные о средней заработной плате рабочих по отраслям промышленности Саратова в 1925 г.
|
Профсоюз |
Средняя зарплата, р. |
|
Союз горнорабочих |
35,53 |
|
– текстильщиков |
30,99 |
|
– строителей |
57,75 |
|
– деревоотделочников |
35,97 |
|
– пищевкус |
40,71 |
|
– кожевников |
56,48 |
|
– швейников |
60,73 |
|
– печатников |
44,75 |
|
– транспортников (авто-мост) |
38,97 |
|
– коммунальщиков |
44,92 |
|
– нарсвязь |
50,76 |
|
– металлистов |
55,07 |
|
Итого |
42,07 |
Из таблицы 1 видно, что средняя заработная плата по разным отраслям промышленности Саратова составляла 42 р. 7 к. Самую высокую зарплату получали рабочие завода им. В.И. Ленина (бывшего завода Гантке) – 57 р. 12 к. [4]. Для сравнения – рядовой саратовский милиционер получал 23 р. 51 к. [5]. Такая разница, очевидно, говорила о приоритете пролетариата в Советском государстве.
Качество жизни населения зависело не только от размера зарплаты, но и от уровня цен. В середине 1920-х гг. средние цены на наиболее востребованные продукты питания и товары первой необходимости в Саратове выглядели следующим образом [6]:
-
– ржаной хлеб стоил 7 к.;
-
– самым дорогим из хлебобулочных изделий был пшеничный калач – 16 к.;
-
– кусковой сахар – 68 к/кг;
-
– сахар-песок – 63 к/кг;
-
– высший сорт говядины – 65 к/кг;
-
– третий сорт – 50 к/кг;
-
– подсолнечное масло – 62 к/л;
-
– мыло – 60 к/кг;
-
– керосин – 14 к/кг.
Если предположить, что после получения зарплаты саратовский горожанин покупал по килограмму или литру каждого из этих товаров, то расходы составляли бы около 2 р. 70 к. На среднюю зарплату рабочего, таким образом, можно было вполне приемлемо существовать. На милицейскую зарплату в 23 р. жить было уже труднее. Если человек курил, то за 50 г махорки он должен был заплатить 7 к. [7].
Начало нэпа означало принятие в молодой Советской республике рыночных основ экономики. Однако простому советскому человеку декреты о введении нэпа вселяли в первую очередь надежду на переход к мирной жизни после длительного периода войн и революций.
Актуальной для обычных граждан была проблема нормального питания, а для Саратова как одного из центров Нижнего Поволжья она являлась особенно острой. Ведь именно население этого региона пережило в начале 1920-х гг. катастрофический голод. В 1922 г. в Саратове, который только начал оправляться от его страшных последствий, в здании этнографического музея на Армянской улице (теперь Волжской. – Л. Б. ) профессором В. Соколовым был даже организован музей голода, где было представлено свыше сотни хлебных суррогатов (из крапивника, шиповника, лебеды и т. д.) [8].
С переходом к нэпу в Саратове появилось разнообразие продуктов питания. Так, в центральных саратовских газетах часто можно было встретить следующую рекламу: «Получена партия мессинских лимонов. Продажа во всех бакалейных универмагах ЦРК. Цена от 10 до 15 копеек штука» [9]. Конечно, большинство горожан были не настолько богаты, чтобы приобретать экзотические товары. Покупка таких фруктов была уделом скорее нэпманов, чем простых саратовцев.
Обычные горожане ограничивались приобретением самых необходимых продуктов питания – хлеба, картофеля, реже сахара и мяса. Хотя и здесь нэп учитывал вкусовые потребности различных категорий граждан. Ведь даже при покупке хлебобулочных изделий у саратовцев появилась возможность выбирать. Помимо традиционного ржаного хлеба, стоившего в среднем по 7 к/кг, при желании можно было найти ситный хлеб по 13 к/кг, пеклеванный – 10, наконец, знаменитый саратовский калач – 16 к/кг. Так же дело обстояло с сахаром, который в Саратове был представлен несколькими видами – кусковым по 68 к/кг, головным – 65, крупным – 66, песком – 63 к/кг. Мясо в городе условно делилось на четыре сорта, начиная с высшего, стоившего 65 к/кг, и заканчивая третьим сортом, продаваемым по 50 к/кг [10].
Поскольку разветвленная система водопровода, а тем более горячее водоснабжение в саратовских домах периода нэпа отсутствовало, городской житель должен был регулярно посещать баню, где действовали следующие тарифы:
-
– номера первого класса с ванной и паром – 1 р. 50 к.;
-
– номера первого класса с ванной без пара – 1 р. 25 к.;
-
– номера второго класса – 75 к.;
-
– общая баня первого класса – 20 к.;
-
– детские до 8 лет – 10 к. [11].
Иными словами, если допустить, что саратовец пользовался общей баней первого класса, в месяц на одного человека уходило около 1 рубля.
Таким образом, можно сделать вывод, что на продукты и личную гигиену среднестатистическому работающему саратовцу в целом хватало получаемых денежных доходов.
Если с питанием в городских условиях нэпа ситуация относительно быстро стабилизировалась, то с оснащением горожан одеждой и обувью зачастую возникали проблемы. После Октябрьской революции 1917 г. на многих фабриках и заводах в силу дефицита было организованно распределение одежды и обуви рабочим. В Саратове в некоторых организациях такие выдачи продолжались и в годы нэпа. Так, в «Саратовских известиях» за 1926 г. описывалась следующая ситуация: «В коллективном договоре трампарковских рабочих с администрацией относительно спецодежды очень ясно говорится, что рабочий получает: шубу – на два года; пальто – на три года; шапку и валенки – на один год. По истечении этих сроков вещи переходят в собственность рабочего» (орфография и пунктуация статьи сохранены. – Л. Б. ) [12].
Постепенно люди привыкали к новым экономическим условиям. Тем не менее материальное положение большинства населения улучшалось очень медленно. Свидетельством плохого состояния гардероба в первые годы нэпа являлся практически каждодневный труд горожан по починке одежды и обуви. Много сил отнимала и переделка платьев. Вообще типичной чертой внешнего облика жителей города было ношение перешитых вещей дореволюционного образца.
В Саратове до войны имелась одна фабрика механического производства обуви («Российско-Германское общество») с производительностью до 60 тысяч пар в год. За время войны было оборудовано несколько мастерских для пошивки обуви полумеханическим способом: фабрики «Пионер», «Богатырь», мастерская Айзермана. Однако этого было ничтожно мало для удовлетворения запросов жителей Саратовской губернии. В 1922 г. единственная на все Нижнее Поволжье механическая обувная фабрика «Российско-Германское общество» за изношенностью оборудования прекратила существование. В целом в 1924–1925 гг. выработка обуви государственной и кустарной промышленностью составляла лишь 69 % потребности населения Саратова в обуви [13].
Обувь саратовцы покупали на рынках или в магазинах. Самой дефицитной и, следовательно, самой дорогой была кожаная обувь. Так, яловые сапоги можно было приобрести по цене 18 р. за пару. Мужские галоши в среднем стоили 3 р. 30 к., дамские – 4 р. 70 к. Стоимость мужских и женских валенок была примерно одинакова – в среднем 8 р. [14].
Таким образом, с утверждением в 1920-е гг. политики нэпа жизнь в Советской России постепенно налаживалась. После окончания кровопролитной Гражданской войны для населения городов особенно актуальными стали простые обывательские радости, связанные с возможностью, получая стабильную зарплату, покупать необходимые продукты питания и промтовары. Население Саратова, пережившее, помимо тягот Гражданской войны, еще и катастрофический голод Нижнего Поволжья, воспринимало нэп как залог своеобразной продовольственной стабильности. Нэп, обеспечив саратовцев приемлемым и достаточно разнообразным питанием, не смог достичь таких же успехов в снабжении городских обывателей одеждой и обувью. Это было связано с главным противоречием новой экономической политики, когда развитие сельского хозяйства значительно опережало развитие промышленности.
Ссылки:
-
1. Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. Chicago, 1970. 327 p. ; Schutz A., Luckmann T. The Structures of the Life-World / trans. by R.M. Zaner, T. Engelhardt. Evanston, 1973. 339 p.
-
2. Козлова H.H. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996. 216 с. ; Осокина Е.А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928–1935 гг. М., 1993. 144 с.
-
3. Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. 1925. № 3. С. 60.
-
4. Там же. С. 61.
-
5. Административная жизнь. 1925. № 7. С. 17.
-
6. Нижнее Поволжье. 1927. № 4. С. 168.
-
7. Там же. С. 169.
-
8. Культура: журнал профессиональной жизни науки и искусства. 1922. № 1. С. 5.
-
9. Саратовские известия. Орган исполнительного комитета Саратовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1925. 12 янв.
-
10. Нижнее Поволжье. 1927. № 4. С. 168–169.
-
11. Коммунистический путь. Ежемесячный орган Саратовского губкома ВКП(б). 1925. № 2. С. 16.
-
12. Саратовские известия. 1926. 2 нояб.
-
13. Нижнее Поволжье. 1926. № 2. С. 111.
-
14. Саратовские известия. 1925. 5 февр.
Список литературы Уровень и качество жизни в советском городе периода НЭПа (на материалах г. Саратова)
- Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. Chicago, 1970. 327 p.; Schutz A., Luckmann T. The Structures of the Life-World / trans. by R.M. Zaner, T. Engelhardt. Evanston, 1973. 339 p
- Козлова H.H. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996. 216 с.; Осокина Е.А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928-1935 гг. М., 1993. 144 с
- Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. 1925. № 3. С. 60
- Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. 1925. № 3. С. 61.
- Административная жизнь. 1925. № 7. С. 17
- Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. 1927. № 4. С. 168.
- Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. С. 169.
- Культура: журнал профессиональной жизни науки и искусства. 1922. № 1. С. 5
- Саратовские известия. Орган исполнительного комитета Саратовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1925. 12 янв
- Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. 1927. № 4. С. 168-169.
- Коммунистический путь. Ежемесячный орган Саратовского губкома ВКП(б). 1925. № 2. С. 16
- Саратовские известия. Орган исполнительного комитета Саратовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1926. 2 нояб.
- Нижнее Поволжье. Орган Нижне-Волжской областной и Саратовской губернской плановых комиссий. 1926. № 2. С. 111.
- Саратовские известия. Орган исполнительного комитета Саратовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1925. 5 февр.