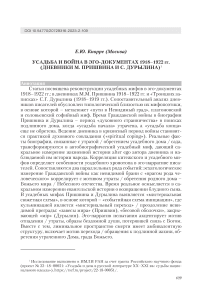Усадьба и война в эго-документах 1918-1922 гг. (дневники М. Пришвина и С. Дурылина)
Автор: Кнорре Е.Ю.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена реконструкции усадебных мифов в эго-документах 1918-1922 гг.: в дневниках М.М. Пришвина 1918-1922 гг. и «Троицких записках» С.Г. Дурылина (1918-1919 гг.). Сопоставительный анализ дневников писателей обусловлен типологической близостью их мифопоэтики, в основе которой - метасюжет «пути в Невидимый град», платоновский и соловьевский софийный миф. Время Гражданской войны в биографии Пришвина и Дурылина - период «духовного странничества» в поисках подлинного дома, когда «усадьба начала» утрачена, а «усадьба конца» еще не обретена. Ведение дневника в кризисный период войны становится практикой духовного совладания («spiritual coping»). Реальные факты биографии, связанные с утратой / обретением усадебного дома / сада, трансформируются в автобиографический усадебный миф, дающий сакральное измерение жизненной истории alter ego автора дневника и наблюдаемой им истории народа. Корреляция китежского и усадебного мифов определяет особенности усадебного хронотопа в эго-нарративе писателей. Сопоставляются два параллельных ряда событий: эсхатологическое измерение Гражданской войны как невидимой брани с «врагом рода человеческого» коррелирует с мотивом утраты / обретения родного дома -Божьего мира / Небесного отечества. Время реальное осмысляется в сакральном измерении евангельской истории о возвращении блудного сына. В усадебных мифах Пришвина и Дурылина выявляется «мистериальная сюжетная схема», в основе которой - «событийная схема инициации», где кульминацией является «мистериальный переход» / преодоление невидимой преграды: «завесы мира» (Пришвин), «бесовой оболочки», закрывающей «мiр» (Дурылин). Эго-нарратив испытания акцентирует мотив отпадения / утраты, образы бездомной души, потерявшей связь с Богом. Вместе с тем, лиминальное пространство смерти имеет амбивалентную структуру, включает мотив перехода / обращения к подлинной жизни, обретения утраченного Дома, града Божьего.
Дневники, усадебный топос, усадебный миф, гетеротопия усадьбы, лиминальность, мотив возвращения блудного сына, китежский текст, платоновский миф, соловьевский миф, м.м. пришвин, с. дурылин, гражданская война, мистерия, невидимый град
Короткий адрес: https://sciup.org/149143514
IDR: 149143514 | DOI: 10.54770/20729316-2023-2-109
Текст научной статьи Усадьба и война в эго-документах 1918-1922 гг. (дневники М. Пришвина и С. Дурылина)
ВведениеК постановке проблемы
Различение «усадьбы реальной» и «усадьбы воображаемой» как феномена художественного мира писателя, теоретически обоснованное в трудах О.А. Богдановой [Богданова 2019, 20], позволяет поставить вопрос о роли усадебного топоса в структуре автобиографического мифа. О.А. Богданова выделяет особые семиотические трансформации «усадебного сверхтекста» русской литературы в постусадебный период (во второй и последней трети XX в.), когда выявляются «структурно-семантические последствия перенесения топоса усадьбы в поле памяти и воображения – а именно уподобление пространственной организации усадьбы ментальным процессам», трансформация «“усадебных” поведенческих стратегий в ситуации утраты контекста их возникновения» [Богданова 2021, 20].
Особую трансформацию автобиографического усадебного мифа можно увидеть в эго-документальной прозе Серебряного века, где эго-документ становится пограничным жанром на стыке религиозного, философского и художественного творчества. «Биографическая (автобиографическая) легенда» или «автобиографический миф», по определению Д.М. Магомедовой, – это «исходная сюжетная модель, получившая в сознании поэта онтологический статус, рассматриваемая им как схема собственной судьбы и постоянно соотносимая со всеми событиями его жизни, а также получающая многообразные трансформации в его художественном творчестве» [Магомедова 2013, 2]. Для неомифологической поэтики символизма «характерно создание глубинных мифо-синкретических структур, среди которых – отсутствие объективных пространственно-временных связей, географической приуроченности, и наличие мотивов зеркальности, “двое-мирия”, двойничества персонажей» [Глухова 2020, 50], что в свою очередь дает возможность говорить о «гетеротопии усадьбы» [Богданова 2018], где преодолевается «принцип бинарности» моделей и способов поведения
[Шестакова 2014, 65], намечается путь к иной «организации мира» [Богданова 2020, 298]. Необходимо отметить, что междисциплинарная категория «гетеротопии» (М. Фуко) введена в тезаурус «усадебных» исследований О.А. Богдановой в докладе «Категория “усадебного топоса”: границы, структура, семантика, динамика, модификации и вариации» (9 октября 2018 г.) [Богданова 2018].
Одним из примеров символического осмысления «схемы собственной судьбы» можно считать дневники М. Пришвина и С. Дурылина. Общность мифопоэтики писателей, определяющейся в контексте религиозной философии Серебряного века, ее ключевого мифа о Невидимом граде Божием, источником которого является платоновский и соловьевский софийный миф [Кнорре 2019, 43], дает основание для сопоставления их творчества как релевантных контекстов восприятия эпохи.
Усадебный топос Пришвина рассматривается как часть усадебного сверхтекста русской и зарубежной литератур [Богданова 2019; Эртнер 2020; Святославский 2021], исследуется в составе китежского текста Пришвина, где выявляются семантические параллели «дом матери» / «невидимая церковь» / «Невидимый град», символические соответствия утраченной усадьбы детства (Хрущево) и последней усадьбы в Дунине, их синтез в топосе Божьего града [Кнорре 2019; Кнорре 2021]. Усадебный текст Дурылина представлен как часть евхаристического текста русской литературы [Карпенко 2020], в усадебном мире писателя выявляется связь «усадьбы начала» и «усадьбы конца» [Акимова 2021].
Вместе с тем, вне поля специального исследования остается тот фрагмент судьбы писателей в период катастрофы Гражданской войны (1918– 1922), когда родная усадьба уже в прошлом, а «усадьба конца» еще не обретена. Представленная реконструкция усадебных мифов помогает прояснить жизнетворческие смыслы усадьбы в кризисное время войны. Для описания дуальности усадебного эго-нарратива нами будут использованы понятия автобиографического и усадебного мифов, лиминального пространства, гетеротопии усадьбы, позволяющие показать трансформацию фактов биографии писателя, связанных с переживанием утраты / обретения дома, в символическом хронотопе духовного странствия alter ego автора дневника в поисках Небесного отечества.
Анализ и обсуждение
Проблематика усадебного текста в дневниках М. Пришвина 1918– 1922 гг. и «Троицких записках» С. Дурылина (1918–1919) строится в составе мифа о Невидимом граде, сокрытого невидимой стеной от взгляда грешника [Кнорре 2019]. Гражданская война запечатлевается в образе катастрофы богоотступничества: это страдание, попущенное из-за грехов человека, время, когда «любовь оскудевает». Трагедия утраты реального дома коррелирует в этот период с утратой «устойчивой земли» – целостного Божьего мира, «Небесной родины», мiра как богочеловеческого единства, что вносит в усадебный текст особое драматическое измерение.
В «Троицких записках» С. Дурылина появляется ощущение раскола России («Разделилась “россия”. Кучка – “Святая Русь”, остальные – Россия») [Дурылин 2016b, 91]. В дневниках Пришвина появляется образ «России личной», ушедшей под воду, подобно Китежу [Кнорре 2019, 136].
Война реальная изображается через призму духовной брани, которая происходит в невидимом духовном мире. Дурылин запечатлевает историю юродивого, открывшего потаенный лик войны: «Жил прежде при монастыре нищий, юродивый Хрисанф. Перед войной и революцией выходил он наружу, на небо смотрел и охал: “Что там делается-то! что делается-то! Бой-то какой! Сражение-то”» [Дурылин 2016b, 86]. Время Гражданской войны ассоциируется с разорением дома Божия, символом которого становится разрушенный храм души: «простреленная грудь – разрушенный храм» [Пришвин 2007, 97], в дневниках упоминается разорение мощей святого Тихона Задонского, утрата которых в народном религиозном сознании ассоциируется с градом Китежем, ушедшем на дно озера и ставшим невидимым для тех, чье сердце погружено в ненависть:
Вот разобрали мощи Тихона Задонского, народ ответил на это верой, что Тихон Задонский ушел и стал невидим. Так в царстве явное зло – власть, все любовное стало невидимо, и всякое слово добра умолкло. Мы отданы року и молчим, потому что нельзя говорить: мы виноваты в попущении, мы должны молчать, пока наше страдание не окончится, пока рок не насытится и уйдет <…> есть время, когда зло является единственной творческой силой, все разрушая, все поглощая, оно творит невидимый Град, из которого рано или поздно грянет: – Да воскреснет Бог! [Пришвин 2008, 345].
В «Троицких записках» Дурылина появляется картина разорения мощей Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре. Мотив осуждения людей передан в словах Тани Розановой: «Прав папа: мерзок человек, а русский человек – отвратителен» [Дурылин 2016b, 91], а затем звучит и в устах потрясенного alter ego автора дневника: «И это – Русь, и то – Россия. Вот когда вспоминаешь В. В-ча: “Нет, она окаянная”. И также: “Нет, она святая, еще святая”. Только она – уже дробь, уже нет целого: – того целого, которое, худо ли, хорошо-ли, держалось и спаивалось века» [Дурылин 2016b, 92].
Китежский миф задает хронотоп двоемирия: реальное время истории народа и личное время автора дневника преломляется в сакральном «сюжете пути» – отпадения / обращения души alter ego автора дневника к Богу. Окаянство внешнего мира осмысляется как часть испытания – попущения по грехам. Время революции – время богооставлен-ности – соотносится Пришвиным с событиями Великого Пятка, «когда не церковная завеса, а само время треснуло, и жили мы без веры, надежды и любви сколько-то времени» [Пришвин 1994, 53]. Пространство реального исторического времени вмещается в хронотоп тропы, которая ведет «блудного сына» в дом отца – Незримый град Божий: «Всем перемучиться, все узнать и встретиться с Богом. Блудный сын – образ всего человечества» [Пришвин 2008, 346]. В «Троицких записках» Дурылин противопоставляет два пути жизни – «идти напряжено, упорно, дерзко» и «тихо возвращаться», «если б не начал возвращаться, погиб бы» [Дурылин, 2015, 78].
Драматизм поиска Бога определяет структуру нарратива возвращения, в основе которого – путь инициации / преображения «блудного сына». В.И. Тюпа выделяет четыре фазы «событийной схемы инициации»: фаза ухода / обособления, которая «помимо внешнего, собственно пространственного ухода (в частности, поиска, побега, погони) или, напротив, затворничества <…> может быть представлена <…> уходом “в себя”, томлением, разочарованием, ожесточением, мечтательностью, вообще жизненной позицией, предполагающей разрыв или существенное ослабление прежних связей» [Тюпа 2009, 39]; фаза (нового) партнерства, где действующее лицо часто подвергается искушениям разного рода; «лиминальная» [Тэрнер 1983], (пороговая) фаза испытания смертью – символическая смерть героя или символическое пребывание в стране мертвых; фаза возвращения (символическое воскресение в новом качестве), когда «перемена статуса героя <…> символическое “новое рождение” сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых акцентируется его новое жизненное качество» [Тюпа 2009, 39–40].
Помимо «семантической цитации гипермотива» [Тюпа 2009, 151] в тексте дневников присутствует, на наш взгляд, ассимиляция мотива возвращения, включение в его состав сюжетно-мотивного комплекса китежского мифа, где конститутивным элементом становится феномен обращения, в котором, как отмечает А.К. Антонов, «соединяется неоплатоническое эпистофе, т.е. идея возвращения отпадшего, частного, раздробленного бытия к абсолютному, единому первоначалу, и личное обращение христианина к своему Богу» [Антонов 2004, 159]. Структура акта обращения воспроизводит нарратив возвращения как этапы духовного переворота в судьбе человека.
Реконструкция данной мотивной структуры в усадебных мифах Пришвина и Дурылина позволяет выявить несколько смысловых частей «пути» / «тропы» странствий alter ego авторов дневников, описать нарратив испытания в кризисный период истории.
«Отпадение» / обособление в пространстве смерти: усадьба в мороке сна
Топика китежского мифа определяет пространственную мистику усадебного текста Пришвина. Революция и Гражданская война изображаются как ложный путь в Китеж – попытка «минуя сердце многомиллионного народа, умом и голыми руками схватить пылающий невидимый град» [Пришвин 2004,123], который есть «имение», «прекрасная столица с золотом на стенах дворца»: «все ринутся <...> спеша [скорее] отломить со стены града золото, берут в руки золото, а это никому не нужная позолота» [Пришвин 2007, 531]. Путь человечества, пытающегося бунтом и насилием ворваться в Божий град, заводит в пространство смерти – зыбкую болотистую почву, по которой бегут люди в поисках места, где «земля не колеблется» [Пришвин 2007, 514]: «Как будто прошлой весною прорвало болото нашей империи, и нынче весною оно залило своей нечистью все лоно Петроградской коммуны» [Пришвин 2008, 64]. Отпадение мира от Бога изображено как превращение града Божьего в его двойника: «и град невидимый стал городом Петербургом, оскверненным, загаженным, и люди стали гориллами» [Пришвин 2007, 531]. Мрачный пейзаж сиротской зимы, в тумане которой «нет черты между землею и небом», рыжая навозная дорога на небо символизируют искажение подлинного пути – он не ведет вверх, но тянет вниз, «в сиротскую зиму этой раздавленной страны» [Пришвин 2008, 463–464].
Апостасийному пространству России-Скифии в дневниках Пришвина соответствует семантическая параллель зимнего пространства России в одержании бесов в «Троицких записках» С. Дурылина: «Взовьется метель – и взобьет, вскружит, всклокочет – почему? зачем? куда? Вопросы безответны. Таков снег, таковы люди. “Сколько их! Куда их гонит?”» [Ду-рылин 2015, 81]. Мотив «бесовства» звучит и в запечатленном в дневнике событии: «Передают, что вчера в начале обедни исцелился буйный бесноватый мальчик» [Дурылин 2016b, 92], в образе «сильнейшей вьюги», когда «титаническое начало богоборствует и возстает» [Дурылин 2016b, 87]. Черные воды Стикса, текущие в ледяное озеро на дне Ада – Коцит, своим холодом пронизывают душу умирающего В.В. Розанова, предсмертный путь которого запечатлен Дурылиным в дневниках 1919 г. («Он дрожал от какого-то внутреннего и внешнего холода»; «Точно оне уже заливают его: <…> холод внутри, холод снаружи, холод сжимает, как тиски» [Дуры-лин 2015, 82, 83]).
Можно предположить, что в изображении холодного пространства Гражданской войны присутствуют и аллюзии к «адской зиме» ледяных песен Данте, где, как отмечает Т.Г. Чеснокова, можно обнаружить «связь зимнего антуража с мотивами “смерти заживо” и утраты духовной родины» [Чеснокова 2022, 40]. В дневниках Пришвина и Дурылина мотив зимнего холода символизирует отчуждение людей, отсутствие теплых связей как одно из проявлений войны в духовном мире человека.
Образ града-имения, которое хотят захватить силой, коррелирует с образом дома-имения, прототипом которого является родовое имение Пришвиных Хрущево-Левшино, отобранное большевиками в 1918 г. Образу богооставленного мира, символом которого становится амбивалентный город на болотах – Петербург, соответствует семантическая параллель мертвого дома («умершего Хрущева») – разоренного усадебного дома посреди «сиротской зимы», теперь «желтого» – «поганого места», куда пытается вернуться alter ego автора дневника – «бунтующий Евгений»: «Нет, куда тут странствовать, вернуться бы в дом блудному сыну <...> Но где же этот дом, где домашний уют. Дом стоит желтый в родном городе, в нем побывали, видно, солдаты: окна выбиты, двери растащили на растопку соседи и бросили; <…> поганое место!» [Пришвин 1995, 24].
В «кризисных снах» [Бахтин 1979, 171] alter ego автора дневника запечатлевается внутренняя динамика странствий души в поисках подлинного дома. Драматизм утраты родного дома заключается в невозможности обрести его как земное имение / владение. Возвращение – это путь на Голгофу, покаянное обращение души к Богу: «Снилось мне умершее Хрущево, будто я приехал туда, и там одна только покойница няня, все прибирает, все чистит, и так у нее все радужно-прекрасно выходит, и я чувствую через боль красоту неописанную. Батюшка о. Афанасий входит прямо с св. дарами у чела, как будто продолжает Великий Вход из царских дверей. Я говорю ему, что приехал утвердиться во владении. “Напрасно, – отвечает батюшка, – ничего не выйдет”» [Пришвин 1995, 88]. «Тропа моя обрывается, я поминутно оглядываюсь, стараясь связать конец ее с подобным началом тропы впереди» [Пришвин 2008, 358].
Путь в родную усадьбу открывается в мороке сна и в записках C. Ду-рылина. Дорога ведет через переправу и лес – в утраченную усадьбу детства. Как и у Пришвина, «“дорога к няне” Поле» связана с видением отца Иосифа (ср. о. Афанасий во сне Пришвина): «А когда видел во сне о. Iоси-фа, то перед тем видел «дорогу» к няне Поле – фантастическую, через речку, дом перевозчика, коридор в лесу <…> Почему-то вспоминается Полин рассказ – как сосны наклонялись, и это был бес» [Дурылин 2015, 88]
Драматургия записок строится вокруг ключевого топоса – монастыря Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре, у стен которого ищет спасения alter ego автора дневника. Реальной основой усадебного мифа становится ситуация внутреннего распутья, духовный кризис, поиск своего призвания – в миру или в монастыре. После смерти матери в 1914 г. Дурылин не имел собственной квартиры и с тех пор находился в постоянных разъездах: «в сущности Дурылин жил подобно любимым им беспоповцам страннического согласия, не имевшим гражданских паспортов, а только лишь паспорта взыскуемого “горнего Иерусалима”. Но первую половину 1919 г. Дурылин лишь ненадолго выезжал из Сергиева Посада, из-под “крыла преподобного Сергия”» [Резниченко, Резвых 2016]. «Ему хочется замкнуться в “четырехстенном, своеугольном” пространстве, отгородиться от внешнего мира <…> Все мировые события теперь для него ничто по сравнению с главным событием-вопросом: погибнет или спасется эта отдельная человеческая душа» [Торопова 2014, 123]. Келья в монастыре ассоциируется с местом спасения – пространством тишины под покровом Бога: «но нет у меня дома нигде, кроме этого <…> Я или бездомный, или в этом дому» [Дурылин, 2015, 88]. Еще в 1914 о. Анатолий дает напутствие в поисках: «Носи монастырь в сердце своем, а время покажет, в какой монастырь тебе идти…» [Торопова 2014, 97]. Однако, как обрести это место, как оно будет дано Богом? Вопрошание о доме получает ответ: «Но как Бог даст: Бог даст-ли мне Оптину? Только Он один может ее дать» [Дурылин 2015, 77].
Испытание смертью – поединок с «врагом»: душа / дом в бесовой оболочке
Мистерия пути домой в дневниках Дурылина строится, как и у Пришвина, в невозможности обрести свою келью как «имение», убежище, ограждающее от страданий мира. В дневниках появляется упоминание евангельских строк: «Иже не отречется всего своего имения, не может быти мой ученик» [Дурылин 2015, 89].
Топос войны – топос смерти – изображается как иллюзорный мир: это «лиминальное пространство» («коридор в лесу»), где оказывается герой, чье зрение замутнено грехом осуждения и вражды. Возвращение домой – это путь принятия креста, покаянное взыскание, молитвенное обращение к Богу, духовная борьба с враждой и осуждением в душе человека. Вместилище войны не только внешний мир, погруженный в окаянство, война – «вражьи нападения» – проникают и в душу героя, которая сравнивается с домом-вместилищем, дверь которого отворена бесами: «Молитва становилась – и будучи сухой – еще суше. Словно дверь открылась в душе, в которую врывались ветры помыслов» [Дурылин 2016, 101]. Образу души-вместилища соответствует увиденная в «мути» сна комната в Переведеновском переулке (куда после разорения родной усадьбы в Плетешках переехала семья Дурылина), в окна которой пытаются проникнуть бесы: «Я был в комнате с мамой, в нашей, кажется, переведеновской комнате. На нее нападала сила демона – она стремилась проникнуть отовсюду, казалось, воздух за окнами колебался от демонов. Рамы трещали, двери затворенные были распираемы изнутри их напором <…> Вдруг к форточке приник малый и безобразный бес, он уже выставил свою морду». Освобождение дома-души возможно только в молитвенном взыскании: «Я стал усиленно, громко, часто, часто творить Iисусову молитву <…> я был жив только ею» [Дурылин 2015, 89].
У Пришвина образу души в мороке греха соответствует образ дома-тюрьмы. Герой-скиталец уходит от мира, закрывается в собственном доме, его душа переживает состояние «смерти» – ожесточается, бунтует против утраты имения, захваченного новой властью: «Мужики отняли у меня все, и землю полевую, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как в тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из опасения выстрела какого-нибудь бродяги» [Пришвин 1994, 65]. Замкнутое пространство усадебного дома, окна которого заколочены, коррелирует с образом сердца, закрытого «черной вуалью» [Пришвин 2008, 81] и символизирует смуту душевную, блуждание в пространстве смерти: «не я ли умираю, как умирал Блок со своею Прекрасною Дамой?» [Пришвин 1995, 267]. Обвинение и уныние погружает alter ego автора в «смертные пелены». Мотив «черной вуали» отсылает к блоковской поэтике антитезы, где в образе закутанного в «темные ткани» сердца героя, по мнению Е.Е. Чугуновой-Полсон, «очевидна апелляция к демоническому как «ограждающему», «отъединяющему» блоковское «я» от остального мира» [Чугунова-Полсон 2018, 262]. Освобождение из дома-тюрьмы – это путь покаяния, преодоления вражды и обиды, объединения с «другими».
Мотивы обособления / умирания, отчаяния удержать «имение» / дом души от «вражьих» нападений, замутненности пути «черной вуалью» на сердце составляют нарратив утраты подлинного Дома – связи мира и Бога. Вместе с тем, мотивы безопорности, бездомья, сиротливой зимы, образующие пространство лиминального, обнаруживают двойственную природу: утрата – испытание, в котором герой обретает путь различения подлинного и неподлинного бытия, побеждает зло в покаянии и прощении. Двойственность усадебной образности позволяет говорить о гетеротопии усадьбы в дневниках военного времени, когда лиминальное пространство смерти вмещает и путь возрождения. Обозначенная в статье проблема амбивалентности утраты / обретения подлинного Дома открывает возможность дальнейших исследований дуальности эго-нарратива в кризисный период истории, выявляет жизнетворческий смысл усадьбы в литературе XX в.
Список литературы Усадьба и война в эго-документах 1918-1922 гг. (дневники М. Пришвина и С. Дурылина)
- Акимова М.С. Усадьба реальная и усадьба литературная в судьбе и творчестве С.Н. Дурылина // Усадьба реальная – усадьба литературная: векторы творческого преображения: коллективная монография. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 218–228.
- Антонов К.М. Концепт религиозного обращения в философии Вл. Соловьева // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2004. № 2. C. 159–189.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 318 с.
- Богданова O.A. Живые корни литературных усадеб // Усадьба реальная – усадьба литературная: векторы творческого преображения: коллективная монография. М.: ИМЛИ РАН, 2021.C. 18–27.
- Богданова О.А. «Гетеротопия усадьбы» в романе З.Н. Гиппиус «Роман-царевич» (1913) // Проблемы исторической поэтики, 2020. № 1. Т. 18. C. 294–314.
- Богданова О.А. «Категория “усадебного топоса”: границы, структура, семантика, динамика, модификации и вариации» // «Проблемы тезауруса “усадебных” исследований в российском и зарубежном литературоведении», семинар, проведенный в рамках проекта Российского научного фонда № 18–18–00129 «Русская усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный взгляд» (рук. О.А. Богданова) и при финансовой поддержке РНФ. 9 октября 2018 г. ИМЛИ РАН. URL: http://litusadba.imli.ru/event/seminar-problemy-tezaurusa-usadebnyh-issledovaniyv-rossiyskom-i-zarubezhnom-literaturovedenii (дата обращения: 17.12.2022).
- Богданова О.А. Усадьба и дача в русской литературе XIX–XXI вв.: топика, динамика, мифология. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 288 с.
- Глухова Е.В. «Усадебный топос» русского символизма в эго-документальной прозе Андрея Белого // Феномен русской литературной усадьбы: от Чехова до Сорокина+: Коллективная монография / Сост., отв. ред. и автор предисл. О.А. Богданова. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 48–66.
- Дурылин С.Н. Троицкие записки (Продолжение). Публикация и примечания Анны Резниченко и Татьяны Резвых // Наше наследие. 2016. № 117. С. 94–111.
- Дурылин С.Н. Троицкие записки. Публикация и примечания Анны Резниченко и Татьяны Резвых // Наше наследие. 2015. № 116. С.77–103.
- Карпенко Г.Ю. Поэтосфера русской городской усадьбы начала XX в. (По литературным воспоминаниям С.Н. Дурылина «В родном углу») //Феномен русской литературной усадьбы: от Чехова до Сорокина+: Коллективная монография. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 117–126.
- Кнорре Е.Ю. «Китеж советского времени»: образ «небесной коммуны» в «усадебном мифе» М.М. Пришвина (на материале дневника писателя 1920–1950 гг.) // Усадьба реальная – усадьба литературная: векторы творческого преображения. Коллективная монография. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 205–217.
- Кнорре Е.Ю. Сюжет “пути в Невидимый град” в творчестве М.М. Пришвина 1900–1930-х гг.: дисс…к. филол. н.: 10.01.01. М., 2019. 295 с.
- Магомедова Д.М. Модели писательских биографий как литературные универсалии // Проблемы писательской биографии: К 150-летию А.П. Чехова. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 11–19.
- Пришвин М.М. Дневники 1918–1919 гг. М.: Московский рабочий, 1994. 380 с.
- Пришвин М.М. Дневники. 1918–1919. СПб.: Росток, 2008. 560 с.
- Пришвин М.М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920–1922 гг. М.: Московский рабочий, 1995. 334 с.
- Пришвин М.М. Цвет и крест. Неизвестные произведения 1906–1924 гг. СПб.: Росток, 2004. 608 с.
- Резниченко А. Резвых Т. «Какая благодать льется в окна!..» Дневник Дурылина: смыслы и параллели (постскриптум к публикации) // Наше наследие. 2016. № 118. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/11809.php (дата обращения: 17.12.2022).
- Торопова В. Сергей Дурылин. Самостояние. Москва, Молодая гвардия, 2014. 348 с.
- Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. 277 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 336 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Праксис. 2006. 320 с.
- Чеснокова Т.Г. Зима в Томах и «зима» в Аду: еще раз о перекличках между Данте и Овидием // Studia Litterarum. 2022. № 2. Т. 7. С. 40–61.
- Чугунова-Полсон Е.Е. «Бог при создании закутал его сердце в темные ткани»: Концепт неоготического в блоковских дневниках и записных книжках // Литературный факт. 2018. № 10. С. 253–266.
- Шестакова Э.Г. Гетеротопия – рабочее понятие современной гуманитаристики: литературоведческий аспект // Критика и семиотика. 2014. № 1. С. 58–72.
- Эртнер Е.Н. Мифопоэтика сибирской усадьбы в русской прозе конца XIX-первой трети XX в. // Феномен русской литературной усадьбы: от Чехова до Сорокина+: Коллективная монография. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 127–137.