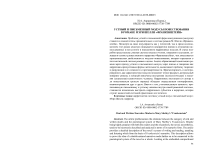Устный и письменный модусы повествования в романе Мэри Шелли "Франкенштейн"
Автор: Авраменко Иван Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 2 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема устной и письменной форм коммуникации (модусов) ставится в данной статье применительно к поэтике романа М. Шелли «Франкенштейн». Несмотря на свою популярность как у читателей, так и среди исследователей, этот роман зачастую описывается некорректно именно в отношении использованных в нем устного и письменного нарративных модусов. В статье подробно представлена сложная система письма и чтения, говорения и слушания, лежащая в основе художественного нарратива «Франкенштейна», чем доказывается принципиальная двойственность модусов повествования, которая отражается в поэтологической системе романа в целом. Анализ обрамляющей композиции романа через призму устного и письменного модуса, через письмо и говорение как нарративно-продуктивные формы деятельности, высвечивает проблему творения и разрушения в ее сложности и противоречивости. Фрагментарность и интегрированность как характеристики модусов позволяют точнее раскрыть центральный конфликт романа, в который вовлечены внутренняя (психологическая) и внешняя (социальная) идентичность человека. Нарративные инстанции (от автора и до повествователя третьего порядка) обладают определенным изоморфизмом, взаимоотражаются друг в друге. Вместе с тем, учитывая разную ценность, приписываемую письменному и устному началам внутри самой романной системы, становится возможным выстроить нарративных субъектов в иерархию, которая служит ценностной системой ориентации для читателя.
Нарратология, поэтика, устный модус, письменный модус, мэри шелли, нарратор
Короткий адрес: https://sciup.org/149127172
IDR: 149127172 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00035
Текст научной статьи Устный и письменный модусы повествования в романе Мэри Шелли "Франкенштейн"
Проблема взаимоотношений устной и письменной форм языковой коммуникации хорошо разработана и имеет давнюю традицию [Tannen 1982], [Redeker 1984], [Chafe, Tannen 1987], [Murray 1988]. В отечественной лингвистике для обозначения различий по каналу передачи информации принят термин «модус» [Кибрик 2009], который и будет использоваться в данной работе. В отношении художественной литературы было бы точнее говорить об устноориентированном и письменноориентированном модусах, поскольку она по определению является письменной и может лишь имитировать устную речь, впрочем, как и другие формы письменной речи, например, письма или дневники. Однако для краткости мы будем пользоваться терминами письменный и устный модусы, вынесенными в заголовок статьи.
Следует также оговориться, что термин обладает омонимией. Так, в работах В.И. Карасика модус - это «эмоционально-стилевая презентация дискурса в его определенной тональности» [Карасик 2015, 73], а теоретики литературы пользуются термином «модусы художественности» в значении «типы художественной целостности» [Тюпа 2008, 127-128].
Проблема письменного и устного модусов редко ставится при изучении художественной литературы в поэтологическом аспекте. Описывая такие особенности романов, как композиция (например, рассказ в рассказе), повествование от первого или третьего лица, стиль речи нарратора и персонажей, литературоведы зачастую совсем не упоминают, преподносятся ли события нарратором как письменный документ или как звучащая речь. Несмотря на неослабевающий интерес к вопросам художественного нарратива и его форм, существуют лишь единичные работы, освещающие проблему соотношения устного и письменного начал в английском романе, см. [Wodzak 1996], [Jackson 2000].
Говоря о соотношении устного и письменного начала в дебютном романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) Тони Джексон называет его «единственном в своем роде пробным камнем в истории повествования» [Jackson 2000, 78]. Однако даже если исследователи и обращают внимание на повествовательную форму романа, они не всегда точны в ее описании.
Один из первых отечественных исследователей, обратившихся к «Франкенштейну», А.А. Бельский отмечает «обрамленную» композицию, введение нескольких рассказчиков, основным из которых он считает
Франкенштейна. «Письма и дневник» Уолтона, по мнению ученого, относятся к прологу и эпилогу Обращается внимание на перволичную форму истории демона, которая занимает центральную часть романа. Однако устный модус романа совсем не учитывается. Как следствие, повествование Франкенштейна неточно определяется как «внутренняя речь» [Бельский 1968, 298].
В отечественных исследованиях XXI в., обращающихся к нарративной структуре романа, также можно отметить ряд неточностей: «Отрывки (?) из писем подруг (?), капитана Уолтона, встретившего Франкенштейна в его скитаниях и оказавшегося рядом с ним в момент смерти, создают впечатление сложности и прихотливости художественной структуры, в которую вплетаются рассказы (многие?) монстра» [Соловьева 2005, 104]. При формулировке «Главы романа с десятой по семнадцатую представляют собой автобиографическую повесть гомункула и его беседу со своим творцом» [Саркисова 2004, 173] остается непонятным, что беседа демона с Виктором и есть изложение истории первого. Не упоминается и устная форма повествования самого Франкенштейна.
Автор диссертации о М. Шелли И.Н. Павлова констатирует по поводу «Франкенштейна» и «Последнего человека»: «Каждый из рассматриваемых романов является “текстом в тексте”, не просто повествованием, но письменным свидетельством произошедших событий. “Франкенштейн” написан в эпистолярной форме (письма, записи устных рассказов)» [Павлова 2011, 25]. Приоритет отдается письменному модусу, а место, роль и удельный вес устного модуса, к сожалению, не раскрываются.
Подобное невнимание к устному элементу, осложняющему нарративную структуру романа, встречается и в зарубежных работах: «“Франкенштейн” - это эпистолярный роман с тремя повествователями: исследователем Арктики англичанином капитаном Уолтоном, немецким [швейцарским!] ученым Виктором Франкенштейном и безымянным “существом”, которое Франкенштейн создает из разрозненных частей в ходе электрического [физиолого-химического!] эксперимента» [Alexander 2000,237-238]; «“Франкенштейн” и новелла 1819 года “Матильда” - оба эпистолярные произведения» [Bennett 2003, 218]; «“Франкенштейн” (1818) Мэри Шелли - эпистолярный роман со структурой, часто уподобляемой русским матрешкам» [Benford 2010, 324].
Цель данной статьи - продемонстрировать, какую роль играют письменный и устный модусы повествования в поэтологической системе романа М. Шелли. Привлечение категории модуса позволит по-новому взглянуть на роман и, возможно, отчасти разрешить «ускользающую загадку, дразнящую неоднозначность Шеллиевого романа» [Струкова 2001, 43].
В упомянутой выше работе Т. Джексон объясняет характеристику романа - «уродливое детище» - данную самой Шелли в предисловии 1831 г, тем, что «Франкенштейн» противоречиво соединяет признаки письменного жанра романа и устного рассказа о фантастическом [Jackson 2000, 76]. Мы стремимся показать, что письменное и устное нарративные начала находятся в романе не в противоречии, а принципиально смешиваются, дополняют и взаимно обусловливают друг друга. Подобную ситуацию мы определяем как двойственный модус.
Двойственность модуса проявляется с первых страниц на уровне автора: говоря в предисловии об истории создания романа, Шелли упоминает, что он родился из чтения работ Эразма Дарвина, «немецких писателей-физиологов» [Шелли 2010, 9] и «рассказов о привидениях» [Шелли 2010, 12], а также из ее бесед с мужем и Байроном. При этом, скорее всего, имело место чтение вслух, что сближает повествовательную модель автора с де Лэси (см. ниже).
Двойственный модус присутствует и на каждом из «нижележащих» нарративных уровней. Напомним, что композиционно «Франкенштейн» построен как система рассказов в рассказе, что характерно для романтической прозы. Нарративная схема выглядит следующим образом. Роберт Уолтон пишет своей сестре миссис Сэвилл письма, которые постепенно, за неимением возможности их отправлять, трансформируются в дневник. При этом сохраняется адресация во втором лице: «Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе» [Шелли 2010, 145].
В дневник Уолтон заносит устный рассказ Виктора Франкенштейна. При этом Уолтон дает своим запискам двойственную характеристику: «Даже сейчас, приступая к записям, я будто слышу его звучный голос» [Шелли 2010, 26]. (Здесь и далее курсив в романе наш). Интенцией письменного текста становится то, чтобы читатель слышал голос нарратора. Таким образом «Франкенштейн» вписывается в традицию исповеди (изначально устного жанра), также характерной для романтизма. Повествование должно вызывать у читателя ощущение устного рассказа, что, заметим, вступает в противоречие с его письменным стилем, последовательным, обстоятельным изложением.
В завершающей части романа, которая озаглавлена «Продолжение дневника Уолтона», мы, в добавление ко всему, узнаем, что Франкенштейн выступает первым читателем записок и соавтором уже письменного текста: «Франкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ; он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал поправки и добавления, более всего там, где пересказаны его разговоры с его врагом» [Шелли 2010, 142]. Из позиции персонажа он перемещается в позицию автора -это изоморфно тому, что он сделал, когда принял на себя роль Бога, пожелав сотворить живое существо.
Центральную часть в рассказе Франкенштейна занимает история монстра, которую Франкенштейн пересказывает от лица созданного им существа и которую Уолтон также записывает. Кроме того, можно согласиться, что «с самого начала демон представляет свою биографию в речи, которая очень близка к письму» [Jackson 2000, 69], а именно, к защитительной речи в суде.
В свою очередь в центре рассказа монстра находится история семьи
Де Лэси, которую он восстанавливает отчасти по разговорам Де Лэси, а отчасти по скопированным у них письмам.
Исследователи зачастую не уделяют Де Лэси много внимания и не отмечают их историю как еще один нарративный уровень, в то время как она чрезвычайно важна. Благодаря ее наличию каждый из главных действующих лиц романа предстает и «творцом» (автором), и «тварным созданием» (персонажем). Франкенштейн создает демона не только физически, но и нарративно: историю последнего мы знаем только в пересказе. Франкенштейн во всех смыслах автор демона.
Вместе с тем демон принципиально показан в романе как мыслящее и, как следствие, вполне человеческое существо. Способность к мышлению, рефлексии доказывается в том числе его способностью рассказать и свою историю, и историю другого (а также воспринимать художественные нарративы: Гете, Плутарха, Мильтона).
С другой стороны, Виктор имеет над собой автора более высокого, в нарративном смысле, порядка - Уолтона, который в своих записках объективирует образ ученого, придает ему завершающую целостность.
Над Уолтоном, в свою очередь, надстраивается нарративная инстанция автора-редактора, проявляющегося в предисловиях к изданиям 1818 и 1831 гг. (Редакторским вмешательством можно объяснить, например, отсутствие двух последних цифр при указании года в письмах Уолтона и других персонажей.)
Параллели между Виктором и демоном, а также Виктором и Уолтоном стали общим местом в исследованиях романа, см. [Oates 2007], [Струкова 2001], [Дьяконова, Потницева 2010], [Напцок 2012]. В этой связи отметим, что, когда Шелли в предисловии 1831 г. пишет о третьем издании своего романа «И вот я снова посылаю в мир свое уродливое детище» [Шелли 2010, 14], автор романа сближается с заглавным героем, а тема творения изоморфно связывает все нарративные уровни.
Обобщая идею о двойственном модусе романа, сформулируем, что «Франкенштейн» может быть прочитан как роман пересказывания и переписывания. Мы имеем переписывание письменных свидетельств: в формах исправления (Франкенштейн правит записи Уолтона) и копирования (демон копирует письма Сафии, адресованные Феликсу Де Лэси). Излагаются в письменном виде и устные нарративы: Уолтон записывает историю Франкенштейна и, внутри его рассказа, историю демона. С другой стороны, устно пересказываются и устные источники (Франкенштейн от лица демона излагает историю последнего), и письменные (демон пересказывает Франкенштейну содержание писем Сафии, Виктор излагает Уолтону содержание письма Клерваля, а также verbatim воспроизводит в своем устном рассказе письма от Элизабет, Альфонсо Франкенштейна и Клерваля и свой ответ на письмо Элизабет).
Вместе с тем, стоит обратить внимание, что устный и письменный модусы распределены неравномерно среди отдельных персонажей-наррато-ров. Поскольку мы говорим о порождении повествования, то сфокусиру- емся на продуцирующих видах деятельности (говорение и письмо), а не рецептивных (слушание и чтение).
Уолтон и демон воплощают крайние полюса. У первого письмо как деятельность доминирует над говорением: напомним, весь объем произведения - это письма / дневник Уолтона. Адресат его нарратива, сестра Маргарет, также представлена в понятиях чтения: «Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной» [Шелли 2010, 25]. Об отстраненности («уединении») как признаке письменного модуса см. ниже. Уолтон сближается со своей сестрой и в деятельности чтения: «Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом, но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам - я видевший его и слышавший повесть из собственных его уст» [Шелли 2010, 26]. Письмо и чтение для Уолтона, носителя письменного модуса, - логическое завершение устных процессов говорения и слушания, о чем подробнее будет сказано ниже.
Демон, напротив, отдает предпочтение говорению. Значительная, и центральная, часть романа - это его устное сообщение (гл. с 11 по 16). Он почти не причастен к письму, исключение составляют копирование писем Сафии (непродуктивное письмо) и краткие «знаки и надписи» [Шелли 2010, 138] на коре деревьев или камнях для преследующего Франкенштейна. Последний предостерегает Уолтона: «Он красноречив и умеет убеждать; некогда его слова имели власть даже надо мной. Но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности; он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его» [Шелли 2010, 141]. Ученый оказывается прав: речь демона убеждает Уолтона оставить того в живых.
Виктор находится ближе к полюсу устного модуса: он рассказывает подавляющую часть нарратива «Франкенштейна». Вместе с тем, как было отмечено, он участвует в письменной фиксации своего рассказа, а также является автором дневника, который читает демон (содержание дневника, однако, не входит в текст романа). В своей характеристике Уолтон подчеркивает, однако, особенности не письменной, а устной речи Франкенштейна: «когда говорит, речь его поражает беглостью и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью» (напомним, Франкенштейн переходит на неродной ему английский язык); «редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями» - одно из качеств, которые возвышают Франкенштейна «над всеми, доныне мне встречавшимся» [Шелли 2010, 25]. Показательный пример влияния, которое оказывают слова Франкенштейна - его убедительная речь, адресованная матросам, когда они хотели повернуть корабль назад (письмо от 5 сентября). Сходство с демоном кажется нам очевидным.
Семейство Де Лэси воплощает просвещенческий, а еще точнее, руссоистский идеал. Поэтому неслучайно, что они занимают «золотую середину»: они много общаются устно, но также оставляют после себя и письменные источники. Более того, им присущ нарративный модус, который синкретично связывает письменное и устное, - чтение вслух. Этот вид деятельности в рамках романа связывается лишь еще с одним персона-96
жем-воплощением идеала - Анри Клервалем (см. с. 89). Темой отдельного исследования может стать такая уникальная для Де Лэси форма выражения, как пение и ее взаимосвязь с образами природы в романе.
Уоллес Чейф [Chafe 1982] сформулировал две пары признаков, отличающие устный модус от письменного. Первое отличие связано с наличием или отсутствием контакта между производителем и получателем дискурса. Письменный модус характеризуется отстраненностью (detachment), а устный - вовлеченностью (involvement). Второе противопоставление связано со скоростью производства и восприятия дискурса. Более медленный письменный модус способствует интеграции (integration) дискурса, тогда как устный быстрее и более фрагментирован (fragmentation). Следствием становится большая (прежде всего синтаксическая) сложность письменных дискурсов.
Что касается первого противопоставления, устное повествование как Виктора, так и демона, действительно, периодически обращается к присутствующему здесь и сейчас слушателю, учитывает реакцию последнего:
«По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну» [Шелли 2010, 40]; «Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее» [Шелли 2010, 42]; «Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины» [Шелли 2010, 83]; «Я переписал эти письма ... Я дам их тебе, перед тем, как уйти; они подтвердят правоту моих слов, а сейчас солнце уже клонится к закату, и я едва успею пересказать тебе их суть» [Шелли 2010, 85]; «ты подробно, шаг за шагом, описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их, вот они» [Шелли 2010, 88] и т.п.
Письменное повествование (письма Уолтона, Элизабет и Альфонсо Франкенштейна) не предполагает незамедлительной реакции и даже учитывает отсроченность коммуникации: «Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество» [Шелли 2010, 20]; «Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе» [Шелли 2010, 145]. Письменное повествование в некоторых случаях осознает себя как привязанное к материальному носителю: «Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов» [Шелли 2010, 21]; «Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно; ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести» [Шелли 2010, 52].
Второе противопоставление, между интегрированностью и фрагмен-тированностью, развивается в произведении более сложно, и мы сосредоточимся на нем подробнее.
Н.Я. Дьяконова и Т.Н. Потницева связывают эпистолярную форму романа с фрагментарностью, присущей романтической культуре [Дьяконова, Потницева 2010, 512]. Элеанор Салотто видит фрагментированность в композиционной организации романа: «Повествование в этом тексте распределено между тремя нарраторами: Уолтоном, Франкенштейном и его созданием. Рассеяние нарративных голосов указывает на отсутствие цельности нарративного тела, неспособного воспроизвести скрепленное швами повествование о происхождении чей-либо жизни. <...> Рамочное повествование, таким образом, разрушает представление о цельной идентичности, на котором основывается понятие автобиографии» [Salotto 1994, 190].
Нам кажется, что понятия фрагментированности и интегрированности предполагают друг друга и поэтому относительны. Так, демон является по сути фрагментированным существом, полученным из различных частей (биологических органов). Но он одновременно и результат их интеграции. Тем не менее, первая характеристика является для него ведущей, особенно в сопоставлении с остальными персонажами, в биологическом плане значительно более целостными. В своем развитии он идет от интегрированного к фрагментированному восприятию действительности: «Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом: они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу: я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи, и все это одновременно. Понадобилось немало времени, прежде чем я научился различать ощущения» [Шелли 2010, 72].
Таким образом, предпочтение, которое проявляет демон по отношению к устному модусу, можно напрямую связать с его фрагментированной сущностью. Последняя находит свое отражение и в оторванности демона от человеческого общества (скрывался в пристройке к дому Де Лэси), и в отсутствии привязанности к одному месту (о мотиве бегства и преследования см. [Muriel Spark... 2007]).
В аспекте модуса близкий к демону Виктор также часто описывается исследователями в терминах раскола, внутренней разобщенности: «Создание монстра можно объяснить частичным разобщением между его интеллектом и другими сущностными свойствами. <...> После “рождения” монстра Франкенштейн становится разобщенным существом - воплощением эмоций и воображения, разлученных с интеллектом. Когда в своем последнем рассуждении Франкенштейн осознает, что так было не всегда, и восклицает: “Я был наделен одновременно и живым воображением, и острым, упорным аналитическим умом; сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа” - он напоминает гениев восемнадцатого века (в котором и происходит действие романа), наделенных слишком идеальным сочетанием воображения и рациональности, которое в итоге расщепляло и уничтожало их» [Muriel Spark... 2007, 95-96]. Географическая разобщенность Франкенштейна с другими персонажами также не нуждается в особых доказательствах (об
«изгнании» Франкенштейна и демона см. [McLane 2007]).
В отличие от двух описанных выше персонажей Уолтон, по нашему мнению, является интегрирующим началом: его письменный дискурс, как обрамляющее повествование, включает в себя все остальные голоса. Сходный с Виктором в своем исследовательском порыве, вызове, бросаемом самой природе, Уолтон все же способен избежать люциферовской гордыни и сохранить жизни (Франкенштейна и команды корабля) и благополучие связанных с ним людей (собственной сестры). В результате его самость не расщеплена ни преступлением в социальном плане, ни пре- ступлением границ природы. Символически это выражается посредством кольриджевской аллюзии, когда Уолтон обещает своей сестре: «Я не намерен убивать альбатроса» [Шелли 2010, 20]. Он отказывается от попыток преодолеть ледяной рубеж, и его корабль, по мысли автора, должен благополучно вернуться домой.
Нарративная конструкция романа осложняется, далее, различием в оценке модусов. Текст «Современного Прометея» позволяет сделать вывод, что чтение и зрение (письменный модус) аксиологически выше говорения и слуха (устный модус). Уолтон признается сестре, что его вера в правдивость Виктора основана не столько на том, что он услышал, сколько на прочитанном и увиденном: «Его рассказ вполне связен и производит правдоподобное впечатление; и все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Сафии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, больше убедили меня в истинности его рассказа, чем самые серьезные его заверения» [Шелли 2010, 142]. В пользу зрения разрешаются и сомнения Франкенштейна, когда у него была возможность довериться демону: «Его слова производили странное действие. Порой во мне пробуждалось сострадание и возникало желание утешить чудовище. Но стоило лишь взглянуть на отвратительного урода, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось и доброе чувство вытеснялось ужасом и ненавистью» [Шелли 2010, 100]. Подчеркивая превосходство над собой Клерваля, Виктора делает это в терминах письменного и устного: «Увы! Какой контраст составляли мы между собой! <...> И вы, мой друг, получили бы гораздо больше удовольствия, читая дневник Клерваля, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои размышления» [Шелли 2010, 105].
Демон, напротив, отдает приоритет слуху перед зрением. Слепой Де Лэси - единственный персонаж, которому демон решается довериться и который относится к нему с пониманием и симпатией. Такого же отношения демон пытается добиться от своего создателя, когда пытается руками прикрыть Виктору глаза и несколько раз просит выслушать его историю (гл. 10). Демон более полагается на слух (и речь) и в процессе обучения языку. Речь для него - это «наука богов» [Шелли 2010, 78]. Но объективно он проходит путь от овладения речью к овладению письмом, доказывая тем самым превосходство второго над первым.
Таким образом, преобладание письменного начала связывается с выс- шей ценностью, истинностью и красотой, и система рассказов в рассказе приобретает аксиологический вектор: чем более выражено письменное начало, тем значимее стоящая за ним нарративная инстанция. В этой системе координат демон помещается в нижней части шкалы: его творческое начало проявляется только в рассказывании, в остальном он носитель разрушения, являясь причиной смерти невинных «божьих тварей» - маленького Уильяма, кроткой Жюстины, идеальных Клерваля и Элизабет. В конце концов, разрушительное начало обращается у демона само на себя: он собирается закончить жизнь самоубийством.
Виктор находится выше демона, поскольку он творит и в прямом смысле слова. Однако он разочаровывается в своем творении и не способен на продолжение (прекращает работу над подругой демона). Предав свое творение, бросив «новорожденное» существо, Виктор косвенно становится виновен в смерти своих близких, а его собственная смерть определяется его (само)убийственными порывами: «Я должен выследить и уничтожить создание, которому я дал жизнь; тогда моя земная миссия будет выполнена и я смогу умереть» [Шелли 2010, 144]. Таким образом, разрушительное начало в Викторе тоже очень сильно, хотя и не преобладает, как у демона.
Уолтон занимает более привилегированное положение, и как более состоятельный рассказчик, и в силу своей связи с жизненным началом (спасает жизни Франкенштейна и своей команды). Вместе с тем, Уолтон - холостяк и, как Виктор, не имеет детей.
Выше Уолтона оказывается автор, воплощение абсолютного творческого начала и абсолютного письменного модуса (поскольку автор романа в принципе не может в рамках своего произведения вступать в устную коммуникацию).
В заключении отметим, что «Франкенштейн» Мэри Шелли демонстрирует, как категория модуса вступает в системные отношения с другими категориями романной поэтики: композиционной и нарративной структурой, системой, включающей персонажей, нарраторов и образ автора, конфликтом, авторским идеалом и аксиологией. Анализ обрамляющей композиции романа через призму устного и письменного модуса высвечивает проблему творения и разрушения в ее сложности и противоречивости. Фрагментарность и интегрированность как характеристики модусов позволяют точнее раскрыть центральный конфликт романа, в который вовлечены внутренняя (психологическая) и внешняя (социальная) идентичность человека. Нарративные инстанции обладают определенным изоморфизмом, взаимоотражаются друг в друге, но, при учете значимости письменного и устного начала внутри самой романной системы, приобретают разную ценность.
В целом, взаимодействие устного и письменного модусов во «Франкенштейне» вписывается в типологические характеристики романтического сознания. Модель двойственного модуса, которая сводится, по большому счету, к взаимопроникновению противоположностей, соответствует романтической теории двоемирия, иронии и гротеска. В качестве пер- спективы исследования можно предложить гипотезу о том, что во взаимодействии модусов отражаются принципиальные эстетические принципы произведения как представителя определенной литературной эпохи или периода.
Список литературы Устный и письменный модусы повествования в романе Мэри Шелли "Франкенштейн"
- Вельский А.А. Английский роман 1800-1810-х годов. Пермь, 1968.
- Дьяконова Н.Я., Потницева Т.Н. Мэри Уолстонкрафт Шелли: вхождение в XXI век // Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей; Последний человек / изд. подгот. С.А. Антонов, Н.Я. Дьяконова, Т.Н. Потницева. М., 2010. С. 499-533.
- Карасик В.И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 1 (96). C. 73-79.
- Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания. 2009. № 2 (март-апрель). С. 3-21.
- Напцок Б.Р. Функции образа рассказчика Р. Уолтона в романе М. Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2012. Вып. 3 (105). С. 26-32.
- Павлова И.Н. Романы Мэри Шелли «Франкенштейн» и «Последний человек» как философско-эстетическая дилогия: автореф. дис.. к. филол. н.: 10.01.03. СПб., 2011.
- Саркисова Н.М. Мэри Шелли // История западноевропейской литературы. XIX век: Англия / под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. СПб.; М., 2004. С. 166-176.
- Соловьева Н.А. История зарубежной литературы: предромантизм. М., 2005.
- Струкова Т.Г. Мэри Шелли, или Незнакомая знаменитость. Воронеж, 2001.
- Тюпа В.И. Модусы художественности // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 127-128.
- Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей; Последний человек / изд. подгот. С.А. Антонов, Н.Я. Дьяконова, Т.Н. Потницева. М., 2010.
- Alexander M. A History of English Literature. Basingstoke, 2000.
- Benford С. "Listen to my tale": Multilevel Structure, Narrative Sense Making, and the Inassimilable in Mary Shelley's ‘Frankenstein' // Narrative. 2010. Vol. 18. № 3. P. 324-346.
- Bennett B.T. Mary Shelley's letters: the public/private self // The Cambridge Companion to Mary Shelley / ed. by E. Schor. Cambridge, 2003. P. 221-225.
- Chafe W. Integration and Involvement in Speaking, Writing, and Oral Literature // Spoken and written language: Exploring orality and literacy / ed. by D. Tannen. Norwood, 1982. P. 35-54.
- Chafe W., Tannen D. The Relation between Written and Spoken Language Source // Annual Review of Anthropology. 1987. Vol. 16. P. 383-407
- Jackson T.E. The Technology of the Novel: Writing and Narrative in British Fiction. Baltimore, 2009.
- McLane M.N. Literate Species: Populations, "Humanities", and Frankenstein // Mary Shelley's Frankenstein / ed. and with an introduction by H. Bloom. New York, NY, 2007. (Bloom's Modern Critical Interpretations). P. 95-123.
- Muriel Spark on the Shifting Roles of Frankenstein and His Monster (Bloom's Guides) // Mary Shelley's Frankenstein / ed. and with an introduction by H. Bloom. New York, NY, 2007. (Bloom's Modern Critical Interpretations). P. 91-96.
- Murray D.E. The Context of Oral and Written Language: A Framework for Mode and Medium Switching // Language in Society. 1988. Vol. 17. № 3. P. 351-373.
- Oates J. C. Frankenstein's Fallen Angel // Mary Shelley's Frankenstein / ed. and with an introduction by H. Bloom. New York, NY, 2007. (Bloom's Modern Critical Interpretations). P. 29-41.
- Redeker G. On Differences between Spoken and Written Language // Discourse Processes. 1984. Vol. 7. № 1. P. 43-55.
- Salotto E. "Frankenstein" and Dis(re)membered Identity // Source: The Journal of Narrative Technique. 1994. Vol. 24. № 3. P. 190-211.
- Tannen D. Oral and Literate Strategies in Spoken and Written Narratives // Language. 1982. Vol. 58. № 1. P. 1-21.
- Wodzak V. Reading dinosaur bones: Marking the transition from orality to literacy in "The Canterbury Tales", "Moll Flanders", "Clarissa", and "Tristram Shandy": PhD Thesis. University of Missouri-Columbia, 1996.