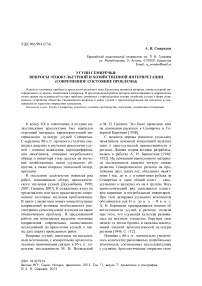Усуни Семиречья: вопросы этнокультурной и хозяйственной интерпретации (современное состояние проблемы)
Автор: Свиридов Алексей Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Одной из ключевых проблем в археологии железного века Казахстана являются вопросы этнокультурной интерпретации усуньских памятников Семиречья. В представленной работе автором рассматриваются современные точки зрения исследователей на круг проблем, связанных с определением основы хозяйства усуней и форм социального устройства общества. Поднимаются вопросы о связи усуней с предшествующими им сакскими и сменившими их в регионе тюркскими племенами.
Усуни, семиречье, оседлость, кочевое скотоводство, поселение, социальные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14737894
IDR: 14737894 | УДК: 902/904
Текст научной статьи Усуни Семиречья: вопросы этнокультурной и хозяйственной интерпретации (современное состояние проблемы)
К концу ХХ в. советскими, а позднее казахстанскими археологами был накоплен огромный материал, характеризующий материальную культуру усуней Семиречья. С середины 90-х гг. прошлого столетия сменились акценты в изучении археологии усу-ней – помимо выявления, картографирования памятников, описания погребального обряда и инвентаря упор делался на изучение хозяйственных основ усуньского общества, а также вопросы этнической интерпретации.
В последние десятилетия появился ряд работ, посвященных обзору археологического изучения усуней [Досымбаева, 1999; 2007; Ганиева, 2007]. К сожалению, в них не представлено или мало представлено современное состояние изучения проблематики. В связи с развитием новых концептуальных направлений возникла необходимость рассмотрения существующих взглядов на выше обозначенную проблему. В предложенной работе мы попытаемся выделить основные направления современных казахстанских исследований по археологии усуней, а также дать анализ проведенных работ.
Впервые усуней, известных по письменным источникам, с конкретными археологическими памятниками связали в 30-х гг. советские исследователи М. В. Воеводский и М. П. Грязнов. Это было проведено ими на основании раскопок в Семиречье и Северной Киргизии [1938].
С момента первых раскопок усуньских памятников основной концепцией являлась идея о сако-усуньской преемственности в регионе. Данная теория активно разрабатывалась в работах А. Н. Бернштама [1946; 1952]. На основании накопленного материала исследователь наметил четкую линию развития Семиреченского региона на протяжении двух тысяч лет, объединил памятники I тыс. до н. э. и памятники рубежа эр Семиречья в один общий пласт – сако-усуньских и разделил их на 4 группы. Весь хронологический ряд связывается единством керамики и погребальным инвентарем. При этом датировка усуньских комплексов обозначается как II в. до н. э. – II в. н. э. А. Н. Бернштам придерживался мнения об автохтонности усуней в регионе, полагая при этом, что усуньская культура развивалась на местных элементах, берущих свое начало от эпохи бронзы, и являлась наследницей сакской археологической культуры региона [1946. С. 112].
Начиная с 60-х гг. значительно увеличилось количество раскопанных погребальных комплексов, соотносимых исследователями с усунями. Археологические открытия этого
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 7: Археология и этнография © А. Н. Свиридов, 2012
периода представлены работами К. А. Акишева и Г. А. Кушаева [1963], А. Г. Максимовой [1959; 1962; 1970; 1976], Е. И. Агеевой [1959; 1960; 1961]. Помимо раскопок и ввода в научный оборот новых памятников появились и теоретические работы. Первоначально Ю. А. Заднепровский [1997], а позднее А. М. Мандельштам [1983] обратили внимание на необходимость вычленения усуньских комплексов из общей массы сак-ских. Это основывалось ими на противоречии между письменными и археологическими источниками о времени и условиях появления усуней в регионе.
С середины 90-х гг. XX в. наиболее актуальными в изучении археологии усуней являются два направления. Первое – это разработка концепции о генетической связи усуньских памятников с тюркскими. Она представлена в работах А. М. Досымбаевой [1999; 2007]. Второе – определение социальной структуры общества, форм хозяйствования, основанное на анализе комплексного изучения поселенческих и погребальных памятников усуней. Второе направление разрабатывается кругом исследователей во главе с К. М. Байпаковым [2007; Байпаков, Чанг, 2000; Байпаков, Марьяшев, 2001].
Идею о связи усуней с тюрками выдвинул в 60-е гг. XX в. Ю. А. Зуев [1957; 1960]. В конце XX в., в силу изменившейся политической ситуации, идеи о ранней тюркиза-ции кочевых этносов Казахстана стали популярными. В этом контексте строятся работы А. М. Досымбаевой.
Первоначально А. М. Досымбаева выделяла общий для Семиречья и Северной Киргизии усуньский культурный комплекс, при этом считая необходимым разграничивать сакские и усуньские погребения. Первоначально в качестве критерия обозначалась организация курганных сооружений в пространстве: цепочкой (сакское время), хаотичное (усуньское время); кольцевые выкладки вокруг курганов [1996. С. 29–30]. Сходство в оформлении погребальных конструкций, по ее мнению, отражает не генетическое единство памятников сакского и усуньского периодов, а сам процесс взаимодействия и взаимовлияния двух совершенно самостоятельных этнокультурных образований на территории Семиречья [Там же. С. 31].
В ряде последующих работ на археологическом материале А. М. Досымбаевой обосновывалась связь усуньских комплек- сов с тюркскими – «характерной особенностью культурно-исторического процесса на территории Семиречья, начиная с последних веков I тыс. до н. э. и до середины I тыс. н. э., является, с одной стороны, формирование нового устойчивого хозяйственно-культурного типа, и с другой, становление тюркской культуры» [1997. С. 45]. Подтверждение этому процессу исследовательница видит в увеличении количества курганов с каменными насыпями, обосновывая изменение намогильных конструкций как признак выделения нового этапа в развитии погребальной культуры населения Евразии раннего Средневековья [Там же. С. 48]. Вторым показателем процесса становления тюркской культуры на основе усуньской она называет керамический комплекс, известный по раскопанным погребениям. Именно в формах керамики усуней А. М. Досымбаева видит прямые аналогии с сосудами, изображенными на тюркских каменных изваяниях [Там же. С. 49].
Отказываясь от неправомерного, на ее взгляд, мнения о генетической связи сак-ской и усуньской культур, она считает, что господство данной концепции негативно сказалось на решении вопросов, связанных с поиском истоков тюркской культуры на территории Казахстана. Помимо этого, выборочное использование письменных источников помешало восстановлению целостной картины в решении усуньской проблемы [Досымбаева, 1999. С. 27].
А. М. Досымбаева предлагает время существования усуньских памятников разделить на два периода: II в. до н. э. – I в. н. э. и II–V вв. н. э. Первый период – время становления нового историко-культурного комплекса, называется сако-сарматским и характеризуется наличием погребений в подбойных могилах, каменных и деревянных ящиках. Второй – истинно усуньский, в который продолжается традиция предшествующего этапа в погребальных конструкциях, но меняется набор инвентаря. При этом второй период автором рассматривается как предтюркский, имеющий прямые генетические связи с последующим тюркским временем. Весь набор археологических характеристик, присущих усуням, автор считает аналогичным тюркскому [2006. С. 152].
А. М. Досымбаева именно усуней считает основным компонентом при сложении Западнотюркского каганата. Это мнение обосновывается преемственностью материальной культуры усуней и тюрок. При этом появление усуней в Семиречье определяет временем не ранее II в. до н. э. Хозяйственно-культурный тип государства «У-сунь» А. М. Досымбаевой определяется как преимущественно кочевой с отдельными элементами оседлой культуры [2007. С. 14–28, 67].
Второе направление активизировалось в связи с тем, что с середины 80-х гг. в Семиречье значительно увеличилось общее количество исследованных поселений. Открыты поселения на территории Алматинской области и г. Алматы, которые, как и более ранние, сакские, отнесены к типу постоянных сезонных стойбищ [Самашев и др., 2005]. По современным данным, только в Талгарском районе поселений раннего железного века известно более 20. Раскопки производились на поселениях Цыганка-8 и Тузусай. При этом большая часть поселений определялись как стационарные с круглогодичным обитанием. Архитектура построек представлена наземными домами, а также подпрямоугольными и овальными землянками. Характер хозяйства жителей поселений определен как земледельческий с культивированием пшеницы, ячменя, проса и использованием богарного и искусственного орошения. Для населения характерно также ведение придомного и отгонного скотоводства с использованием летних пастбищ в горах [Байпаков, Чанг, 2000]. Для некоторых поселений земледелие является основой хозяйства, для других более характерна временность существования в виде небольших сезонных стойбищ, состоящих из нескольких жилых и хозяйственных построек. Наиболее яркими объектами обеих групп являются комплексы Серектас-1, Ча-рын, Осербай-1, Рахат [Байпаков, Марья-шев, 2001]. Для территории Семиречья наиболее удобными местами для поселений признаются западные отроги Чу-Илийских гор, долины рек Чилика, Чарына, предгорные долины Залийского Алатау.
Привлечение комплексных естественнонаучных методов исследования позволило воссоздавать более полную картину хозяйственного развития региона на рубеже эр. Так, с помощью палеоботанических проб было доказано, что некоторые сорта пшеницы, выращиваемые на территории Талгар-ской долины (на поселений Тузусай), могли возделываться только с помощью искусственной ирригации, следы которой были найдены и близ поселения Сарытогай (Ча-рын) [Корженков и др., 2001]. А проведенный О. В. Кузнецовой комплексный анализ керамики позволил сделать вывод о выборе гончарами различных поселений одинаковых приемов в обработке теста сосудов, что косвенно может говорить об общих традициях в гончарном производстве региона [2000. С. 165].
В результате археологического изучения территории Семиречья в последнее время возрастает количество археологических объектов поселенческого и погребального характера, отнесенных исследователями к усуньской культуре. Масштабность обнаруженных памятников полностью снимает вопрос об отсутствии оседлости и земледелия в усуньском обществе. На повестке стоит лишь решение вопроса о типах и характере этих явлений. Попытки анализа прослеживаются как в историографических работах, представленных по этой теме [Ганиева, 2007], так и в публикациях вновь открытых памятников (могильники Кызыл-булак-4 и Тургень-2), исследованных в верховьях ущелья Тургень, в пределах которых были найдены погребения, датированные авторами раскопок III–I вв. до н. э. [Горячев, 2007. С. 11–14].
Изменение современных подходов в решении тех или иных концептуальных проблем отечественной археологии и древней истории приводит к более тщательной разработке исследователями вопросов не только хозяйственного уклада древних обществ в регионах, но и наличия различных форм собственности, в первую очередь, на землю. Семиречье в силу природно-географических особенностей становится полигоном для исследования подобных явлений. Появляется большое количество работ, содержащих описание, фиксацию, анализ и, как следствие, реконструкцию историко-хозяйственных и политических процессов в регионе в различные периоды.
Анализ археологического материала позволяет исследователям реконструировать структуру усуньского общества, его социальный состав. По мнению К. А. Акишева, в государстве Усунь сочетались пережиточные явления родового строя с рабовладельческими и зарождающимися классовыми отношениями [1998. С. 67].
На основе подробного анализа большого количества поселений рубежа эр, открытых за последние десятилетия на территории Семиречья, К. М. Байпаков приходит к выводу о многообразии поселенческих систем в регионе. Помимо выделенной ранее К. А. Акишевым категории «зимовка-поселение», автор употребляет понятия «стационарные поселения» и «крупные поселения с развитым ремеслом». К последнему относит Сарытогай (Чарын), которое, по его мнению, может являться остатками объекта городского типа, выполнявшего функции административного, ремесленного и торгового центра [Байпаков, 2008. С. 22].
Новый материал приводит исследователя к пересмотру теоретических подходов в характеристике хозяйственного уклада населения железного века. К. М. Байпаков, отрицая наличие периода «чистого номадизма» и не соглашаясь с мнением о повсеместном переходе к кочевничеству в период поздней бронзы, считает неправомерным отождествление терминов «эпоха ранних кочевников» и «эпоха раннего железа» как равнозначных и, как следствие этому, делает вывод, что экономика государств саков и усуней Семиречья базировалась на скотоводстве разных типов: от пастбищного и отгонного с развитым земледелием до кочевого [2007. С. 65–66].
Изменение вектора исследований от поиска этнокультурных корней усуней, активно разрабатываемых в 40–60-е гг. ХХ в., к определению основ хозяйственного уклада обусловлено, на наш взгляд, целым комплексом новых возможностей, открывшихся сегодня перед археологией. Насущной задачей стало определение социально-хозяйственных типов населения раннего железного века. Выяснение этого вопроса позволит вернуться к решению проблем этнической принадлежности вновь открытых поселенческих памятников. Изменение подхода в изучении круга вопросов усуньской археологии говорит о понимании современной казахстанской археологической школой сложности вопросов этнической привязки племен, заселявших Семиречье на рубеже эр, и свидетельствует о поиске более качественных и последовательных способов освещения истории и культуры древнего Казахстана.
USUN’S OF JETYSU: ISSUES OF ETHNOCULTURAL AND ECONOMIC INTERPRETATION (CURRENT STATUS OF THE PROBLEM)