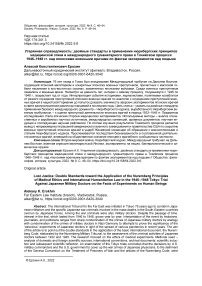Утерянная справедливость: двойные стандарты в применении нюрнбергских принципов медицинской этики и международного гуманитарного права в токийском процессе 1946-1948 гг. над японскими военными врачами по фактам экспериментов над людьми
Автор: Ерохин Алексей Константинович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2022 года.
Бесплатный доступ
76 лет назад в Токио был инициирован Международный трибунал на Дальнем Востоке, осудивший японский милитаризм и конкретных японских военных преступников, причастных к массовой гибели населения в юго-восточных странах, захваченных японскими войсками. Среди военных преступников оказались и военные врачи. Несмотря на давность лет, интерес к самому процессу, тянувшемуся с 1946 по 1948 г., возрастает год от года. Интерпретация события историками, журналистами, политиками колеблется от резкого осуждения преступлений японских военных врачей по аналогии с осуждением преступлений военных врачей в нацистской Германии до попыток доказать значимость зверских экспериментов японских врачей в свете распространения различных пандемий в последние годы. Цель статьи - указать на двойные стандарты применения базового международного документа - Нюрнбергского кодекса, выработанного Нюрнбергским военным трибуналом, - к оценке преступной деятельности японских врачей в период 1932-1945 гг. Предметом исследования стала этическая сторона медицинских экспериментов. Используемые методы - анализ отечественных и зарубежных научных источников, международных конвенций, архивных документов; научная индукция и последующая научная рефлексия. По итогам изучения результатов Токийского процесса делается вывод о неправомерности решений американского военного командования и правительства США по сокрытию военных преступлений японских врачей в ущерб Женевской конвенции об обращении с военнопленными и статьям Нюрнбергского кодекса. Прослеживаются последствия безнаказанности в послевоенной деятельности военных врачей, влиявшей на общественное сознание японцев и врачебного сообщества в частности.
Вторая мировая война, нюрнбергский кодекс, международный трибунал на дальнем востоке, военная агрессия милитаристской японии, эксперименты на людях, бактериологическое и химическое оружие
Короткий адрес: https://sciup.org/149141221
IDR: 149141221 | УДК: 179:341.3 | DOI: 10.24158/fik.2022.9.6
Текст научной статьи Утерянная справедливость: двойные стандарты в применении нюрнбергских принципов медицинской этики и международного гуманитарного права в токийском процессе 1946-1948 гг. над японскими военными врачами по фактам экспериментов над людьми
Дальневосточный юридический институт (филиал), Владивосток, Россия, ,
Введение . После победы СССР и союзных войск во Второй мировой войне встал вопрос о привлечении высших чинов, ее развязавших, к ответственности. Трибунал в Германии, осудивший нацизм и его злодеяния как преступления против человечности, стал начальным звеном в цепи последующих судов над военными преступниками в Японии, СССР и ряде юго-восточных стран. Отдельное внимание среди военных преступлений уделялось насильственным медицинским экспериментам над людьми.
Обсуждение причин, фактов, результатов, подвигнувших немецких и японских врачей к преступным опытам, нашло широкое освещение как в отечественной научной литературе, так и в зарубежной. Суд над японскими врачами в Токио, организованный Международным трибуналом на Дальнем Востоке, вызвал не меньший резонанс в англоязычной литературе. Поиск в системе Google Scholar показал суммарно 64 600 научных публикаций, в основном британских, американских, китайских, корейских, японских, филиппинских авторов. По названиям для работы над статьей были отобраны 48 источников, из которых 8 включены в перечень цитируемой литературы. Основной посыл авторов многочисленных трудов – найти ответ на вопрос о причинах невероятной жестокости, проявленной японскими врачами в медицинских экспериментах, повышенной секретности и намеренного сокрытия многочисленных фактов преступлений в ходе работы трибунала и ухода от ответственности виновных за преступления.
Аналогичный поиск на русскоязычных страницах за период 1950–2022 гг. выявил 108 научных исследований в основном юридического характера, рассматривающих вопросы подготовки Международного трибунала для Дальнего Востока и содержащих правовые оценки в адрес судебного процесса. Некоторое количество работ (немногим более 30) отражают библиотечные системы e-library и «Киберленинка».
Аналитическая литература, касающаяся суждений о медицинских экспериментах, в основном сосредоточена на исторических и геополитических проблемах деятельности японских врачей на оккупированных территориях.
Из общего количества работ лишь узкий круг публикаций затрагивает этические аспекты военных экспериментов японских врачей. В первую очередь среди российской библиографии следует отметить глубокий онтологический и культурологический анализ антигуманного отношения японских врачей к испытуемым Б.Г. Юдина (2011, 2013, 2014). Этико-исторический экскурс в проведение японскими специалистами насильственных экспериментов над людьми на оккупированных территориях представлен в монографии Д.В. Кузнецова (2019) и статье М.Б. Абдурахманова и И.Р. Егорова (2020). Большее внимание исследователи обращают на последствия японских экспериментов, получивших отражение в современных дилеммах биомедицинской этики (Конюшков, 2020; Попова, 2015, 2021; Сафронова, Яровая, 2018) и новых интерпретациях Нюрнбергского кодекса с предложениями пересмотра положений его статей (Синченко, 2021).
Нюрнбергский кодекс – фундаментальная основа современной медицинской этики и международного права . Медицинское исследование в отличие от медицинского лечения представляет собой не только медицинскую проблему, но и неотъемлемую этическую, поскольку оно в соответствии с современными требованиями биомедицинской этики должно отвечать не только узким интересам исследователя, но и целям общего блага пациентов как в настоящем, так и в будущем. Согласие пациента на проведение лечебных процедур является в биомедицине главнейшим принципом оказания медицинской помощи, но еще более важно оно в практике исследований, как отмечается в различных международных документах и национальных этических кодексах медицинских работников1. Злоупотребления в отношении субъектов медицинских исследований никогда не могут быть названы этичными.
Особенно важно, хотя и чрезвычайно сложно, соблюдать этические нормы во время военных действий. Поведение во время войны без следования этическим принципам, будь то врачей или других лиц, может опуститься до уровня варварства, не поддающегося принятию или пониманию. Для предупреждения злоупотреблений воюющих сторон в 1929 г. в Женеве европейскими государствами была подписана Конвенция об обращении с военнопленными. Ее статьи обязывают государства обходиться с военнопленными гуманно, защищать от насилия и оскорблений, не допускать в отношении них меры репрессий, уважать их личность и честь1. Статьи 14 и 15 Конвенции предписывают врачам оказывать любую медицинскую помощь больным и раненым. Соглашение подписали 47 стран, в том числе Германия, где данный документ получил статус «имперского закона». Примечательно, что статьи распространялись и на военнопленных тех государств, которые не подписали Конвенцию. Таким образом, к началу Второй мировой войны в международном гуманитарном праве были четко обозначены условия гуманного, т. е. этичного, обращения с военнопленными.
Однако на практике, как отмечает немецкий исследователь К. Штрайт, германское руководство «не хотело подчинять себя каким-либо ограничениям, ни в методах ведения войны, ни в отношении к советским военнопленным, ни в оккупационной политике» (цит. по: Стратиевский, 2014: 84). В 1945–1947 гг. в рамках расследования Международным трибуналом военных преступлений, совершенных нацистами в ходе Второй мировой войны, были представлены доказательства проведения чудовищных принудительных экспериментов над людьми со стороны немецких врачей. Расследование дало основание трибуналу рассматривать их деятельность как военные преступления, создавшие опасный прецедент для научного сообщества и врачебной практики. Дело нацистских врачей было предано огласке, выделено в отдельный процесс, проходивший с 9 декабря 1946 г. по 20 августа 1947 г., а экспериментаторы привлечены к суду. Их обвиняли в опытах с вивисекцией, стерилизацией, принудительной эвтаназией, убийствах. Главный обвинитель, бригадный генерал США, в обвинительной речи произнес: «На скамье подсудимых 20 врачей, в том числе руководители немецкой научной медицины с превосходной международной репутацией, скатившиеся до подонков. Все они бездушны и готовы угнетать бедных, несчастных, беззащитных существ, которых лишило своих прав беспощадное и преступное правительство. Все они нарушили клятву Гиппократа, которую торжественно клялись блюсти»2. Тем самым Международный трибунал, заседавший в германском городе Нюрнберге, дал не только правовую оценку действиям нацистских врачей, совершивших преступления против человечности, но и этическую.
Важную роль в сборе доказательств бесчеловечных экспериментов сыграла научная комиссия, возглавляемая офицером Королевских ВВС Канады, опытным врачом-психиатром У. Томпсоном. Изучая смертность бывших узников от недоедания, эпидемии сыпного тифа, неоказания медицинской помощи, а также опытов с перепадами давления, он пришел к выводу, что большая часть этого исследования проводилась неэтичным образом, поскольку в медицинских экспериментах не были установлены этические границы приемлемых способов и приемов испытаний. Его выводы подтвердились материалами интервью с немецкими учеными и свидетельскими показаниями выживших испытуемых.
В итоге У. Томпсон был назначен генеральным секретарем Международной научной комиссии по военным преступлениям. Группа научной разведки У. Томпсона микрофильмировала записи немецких исследований, которые позже использовались Нюрнбергским судом. При этом не вставал вопрос об иммунитете от судебного преследования в обмен на доступ к научной информации. Врачи хорошо понимали свою ответственность, поскольку положения европейской врачебной этики им были хорошо известны: в свое время они давали клятву Гиппократа, были осведомлены о положениях Женевской конвенции. Поэтому, несмотря на заявления обвиняемых о том, что они только выполняли приказы командования, вину свою они признали.
Осужденные врачи получили соответствующие наказания, а принятый после процесса Нюрнбергский кодекс предъявил мировому медицинскому сообществу требования «соблюдать определенные основополагающие принципы, удовлетворяющие соображениям морали, этики и закона»3, главными из которых должны были стать добровольность участия в экспериментах и безопасность испытуемых. Положения Нюрнбергского кодекса послужили фундаментальной основой всех последующих международных и национальных этических деклараций, заявлений и правил, регламентирующих экспериментальную медицинскую деятельность в большинстве стран мира.
Медицинские эксперименты японских врачей над людьми в период Второй мировой войны . Практически в то же время, когда проходил Нюрнбергский процесс, на Дальнем Востоке приступили к расследованиям аналогичных нацистским экспериментов над людьми, проводимых японскими военными врачами. На оккупированных японскими войсками территориях Китая, Манчжурии, Кореи, Таиланда, Индонезии строились засекреченные лаборатории, куда доставлялись в неограниченном количестве военнопленные и гражданские лица, которые и стали недобровольными подопытными. Однако на самом деле, как признает американский исследователь истории японской войны Ш. Харрис, расположение многих исследовательских центров неизвестно, поскольку повышенная сверхсекретность испытаний позволяет лишь предположить, что сеть лабораторий располагалась на протяжении от границ СССР и внутренней Монголии, где отряд 80 в/ч 2646 проводил тайные эксперименты над людьми, до Сингапура и других тропических мест (Harris, 2004: 482). После окончания войны к расследованию бесчеловечных экспериментов приступил Международный военный трибунал для Дальнего Востока, вошедший в историю как суд над японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г.
Сравнение масштабов и характера экспериментов над людьми, задокументированных в ходе Нюрнбергского и Токийского международных трибуналов, позволяет сделать несколько важных выводов.
Во-первых, количество жертв экспериментов в японских лабораториях многократно превышает таковое аналогичных опытов в немецких концентрационных лагерях. В базе данных Оксфордского университета, созданной группой П. Вейдлинга, находится сведения о 25 000 жертвах немецких экспериментов, причем 10 000 случаев подтверждены документально. Зафиксировано, что почти 5 % опытов заканчивались смертью испытуемых, а многие другие приводили к серьезным увечьям (Weindling, 2012).
Все японские эксперименты заканчивались убийством испытуемых, по самым минимальным подсчетам, только в наиболее известном армейском подразделении 731 под командованием Ис-иро Исии подверглись экспериментам и были убиты 3 000 человек (Моримура, 1983). Каждый год в этот отряд для опытов доставлялись минимум 600 человек. Об этом свидетельствовал в декабре 1949 г. в ходе судебного процесса над японскими военными преступниками в Хабаровске плененный советскими войсками генерал-майор Квантунской армии Кавасима Киёси1. Еще десятки тысяч китайцев, корейцев, монголов, русских, американцев с 1936 по 1945 г. были использованы в качестве подопытных и убиты в лабораториях подразделений 100, Ei 1644, 643 и др.
Эксперименты включали проверку реакции человека на низкие температуры, изменение давления в барокамерах, удары электрического тока и другие искусственно создаваемые экстремальные условия2 (Рагинский, 1985; Хаяси, 1964). Как отмечает С.Ю. Крикалова, «особенностью всех этих медицинских преступлений военного времени было то, что они проводились под знаменем медицинского прогресса, без малейшего уважения к человеческой личности, с презрением к другим народам» (2014: 153).
Во-вторых, поражающие масштабы японских экспериментов над людьми были частью обширной программы по созданию боевого биологического и химического оружия, которое планировалось применять не только в текущей войне, но и в будущих. Программа велась с 1930 по 1945 г. и была связана с амбициозной политикой японского правительства и военного командования по завоеванию юго-восточных стран и дальневосточных территорий Советского Союза.
Подопытных преднамеренно заражали инфекционными бактериями или воздействовали на них специальными бомбами, предназначенными для проникновения инфекционных частиц через кожу. Выживших после этих экспериментов не было; те, кто не умер от инфекции, погибли при вскрытии их еще живых тел, а в последние дни войны все оставшиеся заключенные были убиты, чтобы скрыть улики преступлений3 (Рагинский, 1985).
Помимо отдельных экспериментов японские воинские части также проводили полевые испытания оружия, распространяющего болезни, против как вражеских войск, так и гражданского населения. Дополнительные тысячи смертей были вызваны распространением чумных блох, бацилл холеры, штаммов сибирской язвы, желтой лихорадки в Китае. Преднамеренно заражались животные, отравлялись водные источники на оккупированных территориях4 . Так, в 1939 г. в
Наманганском инциденте на реке Халхин-Гол наряду с японскими армейскими частями участие принимали и объединенные силы медицинских отрядов. Две тысячи артиллерийских снарядов, загруженных бактериями, были нацелены на советские войска. Болезнетворные возбудители доставлялись и с помощью более примитивных методов, таких как сброс непосредственно в реки.
Свидетельства участников «отрядов самоубийц» поясняют, каким образом происходили отравления водных источников. Например, в 1982 г. бывший военнослужащий Цурута в интервью репортеру газеты Tokyo Mainichi Shimbun заявил, что был одним из 24 человек в таком отряде, участвовавшем в ночной вылазке на советскую территорию, чтобы сбросить килограммы микробов брюшного тифа в воду, используемую советскими войсками. В 1989 г. трое бывших военнослужащих рассказали журналистам о такой же операции в Намангане. Мужчины несли 22 или 23 18-литровых банки с питательным раствором по болотистой местности к берегу реки: «Своими руками мы бросали большое количество кишечных брюшнотифозных бактерий в реку… <…> Возбудители культивировались в растительном желатине. Мы открыли крышки, и вылили желеобразное содержимое банок в реку. Мы несли банки обратно с собою, чтобы не оставлять никаких улик» (Harris, 2004: 486). К счастью, возбудители, выброшенные в реку, сразу после контакта с водой почти потеряли ядовитость.
В качестве биологического оружия рассматривались брюшной тиф, паратиф А и В, сыпной тиф, оспа, туляремия, инфекционная желтуха, газовая гангрена, столбняк, холера, дизентерия, сап, скарлатина, волнистая лихорадка, клещевой энцефалит, «сонго», или эпидемическая геморрагическая лихорадка, коклюш, дифтерия, пневмония, эпидемический цереброспинальный менингит, венерические заболевания, туберкулез, сальмонеллез, а также заболевания, эндемичные для местных сообществ1.
Отряд 100 под командованием Юдзико Вакамацу занимался разработкой массовых отравлений с помощью сотен видов растительных и животных ядов. На выделенных площадях в Манчжурии агрономы отряда выращивали ядовитые растения, которые затем опробовались на живых людях. Культивирование новых форм смертельных токсинов, пестициды и дефолианты были еще одной областью исследований2.
В разработке и реализации программ создания биологического и химического оружия участвовали многие тысячи технически подготовленных гражданских и военных лиц. Около 20 000 из них составляла категория гражданского и военного медицинского персонала.
Когда медицинская этика терпит поражение . Японские ученые-врачи проводили экспертизу биомедицинских проектов. Многие из этих высококвалифицированных, хорошо образованных профессионалов принимали непосредственное участие в убийствах. Их врачебный и исследовательский опыт был необходим для развития и осуществления исследовательских программ, а стремление к научной «истине» или продвижение по карьерной лестнице привели этих людей к совершению преступлений крайней жестокости.
Те же из врачей, кто фактически не участвовали в убийствах, смотрели на действия коллег беспристрастно и без чувства вины. В 1994 г. один из врачей-экспериментаторов в выступлении перед аудиторией заявил, что «лично мне не стыдно. Я думал, что действительно делаю хорошее дело» (Gold, 1996: 187).
При подобных экспериментах никогда не обсуждались вопросы медицинской этики. Курсов медицинской этики в японских университетах не было. Зато часто в медицинские вузы приглашался профессор Мукденского военно-медицинского колледжа Китано Масадзи, делившийся опытом экспериментов на «обезьянах» – так он называл подопытных людей. Он широко публиковался в научных журналах в Японии и за рубежом более 20 лет; значительное количество его работ основывалось на экспериментах над людьми. Сотни, если не тысячи китайцев и корейцев стали «обезьянами» в опытах Китано Масадзи (Harris, 2002: 50–81).
Выпускники медицинских вузов не давали клятву Гиппократа или какого-либо аналога, как в западных или советских учебных заведениях. Советские и западные врачи наследовали твердые моральные нормы и деонтологические принципы, восходящие к этике Гиппократа и деонтологии Дж. Пирса. Советские врачи восприняли не только деонтологию, но и высокую мораль таких российских корифеев от медицины, как В.В. Вересаев, Ф.П. Гааз, Н.И. Пирогов и др. Многие западные и советские врачи руководствовались моделью христианской медицинской этики Парацельса. Соответственно, преподаватели медицинских вузов и средних медицинских образовательных учреждений строго следили и наставляли студентов в медицинской этике, а в лечебных учреждениях поддерживалась этика отношений между врачом и пациентом. Конечно, этика не всегда гарантировала, что врач будет вести себя должным образом при лечении больного, но традиции были настолько сильны, что они управляли поведением гражданских и военных специалистов.
В Японии не было законов, защищающих пациентов от несанкционированного или несогласованного медицинского лечения или вмешательства, в отличие от западных стран и СССР, пытавшихся обеспечить больных и инвалидов юридической защитой. В японских медицинских школах и вузах как само собою разумеющееся предполагалось, что студенты-медики будут хорошо относиться к своим пациентам. Как следствие, этические, моральные соображения отсутствовали в сознании обучаемых и японские врачи не имели традиции этичного обращения с пациентами. Как известно из архивных документов, обнародованных японским исследователем Ю. Танаки, военные врачи прослушали несколько часов лекций по международному праву, касающемуся военнопленных, но эти симпозиумы или дискуссии были почти без исключения посвящены анализу «японского права». Средний и младший японский медицинский и научный персонал в армии ничего не знал о своих обязанностях по международному праву (Tanaka, 1996: 199–211).
Кроме того, Япония не подписала Женевскую конвенцию, а японские традиции обязывали верных слуг императора ни в коем случае не проявлять сострадания к врагу и добиваться победы любой ценой. По мнению Ш. Харриса, неудивительно, что Сиро Исии, приветствуя новых сотрудников в своих лабораториях, признавал, что их работа «полностью противоположна» этическому обязательству врача лечить болезни (Harris, 2002: 305). В целом его отношение к этике может быть выражено кратко в трех положениях: 1) медицинскому работнику следует отложить все чувства сострадания к своим пациентам; 2) от врача-экспериментатора требуется выработать новый подход к экспериментальной медицине, прилагать максимальные усилия для поиска истины в естественных науках и исследованиях; 3) помнить, что Япония живет в окружении врагов и всегда должна быть готова успешно создавать мощное боевое оружие против врага (Harris, 2002: 44). Полный отказ от этики освобождает и ученого от любых обязательств перед испытуемыми. По замечанию Б.Г. Юдина, так складывается новая технология работы врача, необходимым условием которой является различение «мы» и «они». «Мы» – это те, кто проводит эксперименты наряду с теми, кого экспериментаторы относят к той же категории. «Они» принадлежат к другой категории, представитель которой может в какой-то мере рассматриваться как «нечеловек» (2014: 42).
Руководствуясь принципами Сиро Исии, японские экспериментаторы определили для себя в качестве цели производство и испытание на людях огромного количества химического и биологического оружия, которое могло быть использовано как эффективное средство уничтожения населения на территориях противника. Точные итоги преступлений японских программ едва ли когда-нибудь станут доступны, поскольку японские войска, потерпев поражение в войне, постарались скрыть следы преступлений. Лаборатории и остававшиеся в живых свидетели были уничтожены, а дело японских врачей не получило должной этической и правовой оценки и широкой известности, как это произошло с немецкими врачами. Состоявшийся Международный трибунал для Дальнего Востока (Токийский процесс 1946–1948 гг.) изначально освободил от судебного преследования преступников, попадавших, согласно обвинению, в категорию преступлений класса А (преступления против мира – планирование и ведение агрессивной войны и нарушение международного законодательства). Иммунитет от судебных преследований был выдан членам императорской семьи, вдохновителям и разработчикам биологического оружия Сиро Исии, Юиро Вакамацу и Китано Масадзи, а также их ближайшим помощникам Ота, Масуда и Наито в обмен на передачу данных химических и биологических разработок американцам.
В штаб-квартире главнокомандующего союзными войсками Д. Макартура, председателя Токийского процесса, неоднократно обсуждали эту дилемму с официальными лицами в Вашингтоне, и межведомственная целевая группа наконец пришла к выводу: «Информация о японских экспериментах с БО [биологическим оружием] будет иметь большое значение для исследовательской программы США… Ценность японских данных о БО для США настолько важна для национальной безопасности, что намного перевешивает ценность, получаемую от “военных преступлений”… Информация о БО, полученная из японских источников, должна храниться в каналах разведки и не должна использоваться в качестве доказательства “военных преступлений”» (Tsuchiya, 2008: 41). Вывод был основан на тщательном изучении данных, которые в конечном счете были предоставлены американцам Сиро Исии и его коллегами. Следователь Э.В. Хилл сообщал начальнику химического корпуса армии США: «Доказательства, собранные в ходе этого расследования, значительно дополнили и расширили предыдущие аспекты этой области. В нем представлены данные, которые были получены японскими учеными ценой многих миллионов долларов и лет работы. Накапливается информация о восприимчивости человека к этим заболеваниям, о чем свидетельствуют конкретные инфекционные дозы бактерий. Такую информацию нельзя было получить в наших собственных лабораториях из-за опасений, связанных с экспериментами на людях. Эти данные были получены с общими затратами в размере 250 000 фунтов стерлингов на сегодняшний день, сущие гроши по сравнению с фактической стоимостью исследований» (Tanaka, 1996). Именно поэтому трибунал «не нашел веских доказательств медицинских преступлений» и не было суда над японскими врачами и токийской версии Нюрнбергского этического кодекса.
Результаты и выводы . Многие из японских врачей, принимавших участие в изуверских экспериментах, не только избежали наказания, но и в послевоенное время пользовались защитой властей от любых попыток уличить их в военных преступлениях. Часть из них занимали высокие должности в министерстве здравоохранения, получали престижные награды, делали быструю карьеру в науке и высшем образовании. Тема медицинских экспериментов над людьми до настоящего времени является своего рода табу, поддерживаемым правительством и японскими националистами. Однажды освободившись от опасности судебных преследований, часть врачей, принимавших участие в экспериментах над людьми, получили ведущую роль в послевоенном японском медицинском и научном сообществе (Tanaka, 1996).
При этом большая доля общественности сочла излишним серьезно обсуждать эксперименты на людях. Поскольку правительствам Японии и США удалось успешно скрыть эксперименты, даже сегодня японская общественность предпочитает широко не обсуждать эксперименты врачей, даже в случае обнаружения свидетельств1. Только в последнее десятилетие в среде японской интеллигенции наблюдается постепенное осознание вины: «Очень трудно поверить, что врачи, посвятившие себя спасению жизней, действительно обращались с людьми, как с подопытными животными. Любые упоминания в прессе или научной литературе о случаях жестокого обращения с людьми в исследованиях заранее рассматриваются как исключительные отклонения из общего правила гуманности врачебной профессии» (Tanaka, 1996). Японская общественность избегает размышлений об экспериментах на людях как в военной медицине, так и в гражданской.
Указанные обстоятельства находят отражение в сфере медицинской этики. Неспособность противостоять реальности означает, что в японской медицинской этике отсутствует основа для критического обсуждения и оценки экспериментов на людях. Специалисты по медицинской этике редко пытаются критически осмыслить историю военной медицины и выработать общие принципы, которые должны регламентировать медицинские исследования. В японской правовой системе отсутствуют законы, регулирующие такие исследования и обеспечивающие защиту испытуемых. Как отмечает японский биоэтик А. Акабаяши, японские руководства в данной области представляют собой лишь лоскутное одеяло из статей, перенесенных из международных руководств, таких как Хельсинкская декларация. Большинство положений, установленных государственными административными директивами, не имеют обязательной юридической силы (Akabayashi, 2020: 75–76). Японские чиновники от здравоохранения и многие врачи «не сделали выводов из уроков истории, особенно прошлой медицинской бойни, устроенной нашими собственными врачами… Заглянуть в собственное прошлое и оценить его – один из главных императивов этики. Чтобы быть признанной этической страной, Япония должна признать свои прошлые поступки, выяснить правду, извиниться перед жертвами и компенсировать их страдания. Это, несомненно, приведет к установлению подлинной этики клинических исследований в Японии» (Tsuchiya, 2008: 43).
Список литературы Утерянная справедливость: двойные стандарты в применении нюрнбергских принципов медицинской этики и международного гуманитарного права в токийском процессе 1946-1948 гг. над японскими военными врачами по фактам экспериментов над людьми
- Абдурахманов М.Б., Егоров И.Р. Биологические эксперименты Японии на территории Китая в годы Второй мировой войны // Пироговские чтения : материалы XXVI Науч. конф. студентов и молодых исследователей. Н. Новгород, 2020. С. 4-7.
- Конюшков А.В. Опыты над людьми в годы Второй мировой войны и проблемы биоэтики // История великой Победы : сб. материалов межвуз. конф., посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / редкол. О.А. Белоусова, О.А. Голикова. Новокузнецк, 2020. С. 86-90.
- Крикалова С.Ю. Война и медицинская этика: сравнение расследований в Германии и Японии // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9: Востоковедение и африканистика. 2014. № 3. С. 152-156.
- Кузнецов Д.В. Оружие дьявола. Разработка и применение оружия массового уничтожения во время агрессии Японии против Китая (1931-1945 гг.) : монография. Благовещенск, 2019. 346 с.
- Моримура С. Кухня дьявола: правда об «отряде 731» японской армии. М., 1983. 272 с.
- Попова О.В. Тело как объект экспериментирования и становление этоса биомедицины: уроки Нюрнберга // Эпистемология и философия науки. 2021. Т. 58, № 1. С. 125-141. https://doi.org/10.5840/eps202158114.
- Попова О.В. Этические проблемы биотехнологического конструирования человека // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2015. № 2. С. 107-114.
- Рагинский М.Ю. Милитаристы на скамье подсудимых: по материалам Токийского и Хабаровского процессов. М., 1985. 360 с.
- Сафронова Е.В., Яровая В.А. Этические проблемы экспериментов на человеке // Пироговские чтения : материалы XXIV Науч. конф. студентов и молодых исследователей. Н. Новгород, 2018. С. 81-84.
- Синченко Г.Ч. Нюрнбергский кодекс 1947 г. в калейдоскопе интерпретаций и противоречий // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 2. С. 9-21. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2021-2-10-21.
- Стратиевский Д. Советские военнопленные Второй мировой и гуманитарное право. Могла ли Москва спасти своих граждан? //Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2014. № 1 (5). С. 79-90.
- Хаяси С. Японская армия в военных действиях на Тихом океане. М., 1964. 174 с.
- Юдин Б.Г. Биомедицинское исследование в антропологической перспективе // Этнографическое обозрение. 2013. № 3. С. 42-52.
- Юдин Б.Г. Научное познание человека и ценности // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. С. 35-49.
- Юдин Б.Г. Человек как испытуемый: антропология биомедицинского исследования // Личность. Культура. Общество. 2011. Т. 13, № 3. С. 84-96.
- Akabayashi A. Bioethics across the Globe. Rebirthing bioethics. Singapore, 2020. 146 p. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3572-7.
- Gold H. Unit 731 Testimony. Tokyo, 1996. 256 p.
- Harris Sh.H. Japanese biomedical experimentation during the World-War-II era //Military Medical Ethics. Vol. 2. / ed. by E.D. Pelegrino, A.E. Hartle. United States, Department of the Army, 2004. P. 463-506.
- Harris Sh.H. Factories of death: Japanese biological warfare, 1932-1945, and the American cover-up. N. Y., 2002. 424 p. Tanaka Y. Hidden horrors: Japanese war crimes in World War II. Boulder, 1996. 282 p.
- Tsuchiya T. The Imperial Japanese experiments in China // The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. Oxford, 2008. P. 31 -45.
- Weindling P. Die Opfer von Menschenversuchen und gewaltsamer Forschung im Nationalsozialismus mit Fokus auf Geschlecht und Rasse. Ergebnisse eines Forschungsprojekts // Geschlecht und Rasse in der NS-Medizin / ed. by I. Eschebach, Aю Ley. Berlin, 2012. P. 81-100.