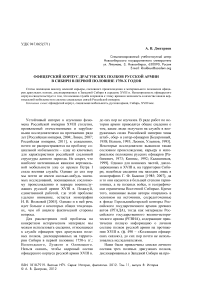«Утерянные» документы о заводских делах «Тобольской архивы» из портфелей Г. Ф. Миллера
Автор: Добжанский Виктор Николаевич, Ермолаев Алексей Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в трех «копийных» книгах Тобольского архива, хранящихся в СПФ АРАН, отсутствуют документы, которые были посвящены истории горного дела в Сибири. Предполагается, что они были извлечены Г. Ф. Миллером для работы по истории горно-заводского дела в России. Их местонахождение до настоящего времени было неизвестно. Авторы статьи, изучая материалы по историиКаштакского сереброплавильногопромысла, установили, что часть этих «утерянных» документов находится сейчас в РГАДА в одном из «портфелей» Г. Ф. Миллера
Горно-заводское дело, горные заводы урала, магнитная и железная руда, каменский завод, невьянский завод
Короткий адрес: https://sciup.org/14737923
IDR: 14737923 | УДК: 930.253:622(091)
Текст научной статьи «Утерянные» документы о заводских делах «Тобольской архивы» из портфелей Г. Ф. Миллера
Устойчивый интерес к изучению феномена Российской империи XVIII столетия, проявляемый отечественными и зарубежными исследователями на протяжении ряда лет [Российская империя, 2004; Ливен, 2007; Российская империя, 2011], к сожалению, почти не распространяется на проблему социальной мобильности – одну из ключевых для характеристики российской сословной структуры данного периода. Не секрет, что наиболее интенсивным каналом вертикальной мобильности уже со времен Петра I стала военная служба. Однако до сих пор мы почти не имеем сколько-нибудь значимых исследований, посвященных сословному происхождению и карьере военнослужащих русской армии XVIII в. Пожалуй, единственной работой, где этой проблеме уделено внимание, остается монография И. В. Волковой [2005]. Однако и в ней речь идет больше о некоторых общих тенденциях, чем об анализе фактической стороны вопроса.
Для рассмотрения этой проблемы на конкретном историческом материале мы можем использовать сведения, относящиеся к службе офицеров трех драгунских полевых полков, дислоцированных на территории Сибири в первой половине 1750-х гг.: Вологодского, Луцкого и Олонецкого. Нельзя сказать, чтобы кадровый состав офицерского корпуса русской армии XVIII в.
до сих пор не изучался. В ряде работ по истории армии приводятся общие сведения о том, какие люди получали на службе в вооруженных силах Российской империи чины штаб-, обер- и унтер-офицеров [Бескровный, 1958; Волков, 1993; Леонов, Ульянов, 1995]. Некоторые исследователи выясняли также сословное происхождение, карьеру и материальное положение русских офицеров [Рабинович, 1973; Кипнис, 1992; Калашников, 1999]. Однако для воинских частей, дислоцированных в XVIII в. на территории Сибири, подобные сведения мы находим лишь в монографиях Г. Ф. Быкони [1985; 2007], да и то они касаются в большей степени гарнизонных, а не полевых войск, и географически ограничены Восточной Сибирью. Кроме того, названные выше авторы опирались в основном на источники, сосредоточенные в фонде Герольдмейстерской конторы Российского государственного архива древних актов (РГАДА), тогда как материалы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), содержащие практически полную информацию о личном составе полков русской армии на протяжении XVIII в. (ф. 490 – «Коллекция офицерских сказок»), до сих пор почти не использовались исследователями.
Нами были привлечены списки личного состава трех полевых драгунских полков, дислоцированных в Западной Сибири на про-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 8: История © А. В. Дмитриев, 2012
Возрастные показатели драгунских офицеров в полевых полках Сибири за первую половину 1750-х гг.
Таблица 1
|
Возраст |
Численность офицеров по полкам (чел.) |
Всего |
||
|
Вологодский 1752 г. |
Луцкий 1754 г. |
Олонецкий 1755 г. |
||
|
До 21 года |
4 |
– |
1 |
5 |
|
21–30 лет |
19 |
20 |
13 |
52 |
|
31–40 лет |
34 |
30 |
29 |
93 |
|
41–50 лет |
13 |
17 |
21 |
51 |
|
51–60 лет |
5 |
6 |
8 |
19 |
|
Более 60 лет |
1 |
1 |
3 |
5 |
|
Неизвестно |
2 |
1 |
2 |
5 |
|
Всего |
78 |
75 |
77 |
230 |
Таблицы 1–4 составлены по: РГВИА. Ф. 490. Оп. 1. Д. 393, 427, 491. Подсчет наш.
Сроки пребывания на военной службе драгунских офицеров в полевых полках Сибири в первой половине 1750-х гг.
Таблица 2
|
Срок службы |
Численность офицеров по полкам (чел.) |
Всего |
||
|
Вологодский 1752 г. |
Луцкий 1754 г. |
Олонецкий 1755 г. |
||
|
До 10 лет |
15 |
10 |
7 |
32 |
|
11–20 лет |
36 |
46 |
38 |
120 |
|
21–30 лет |
22 |
12 |
21 |
55 |
|
Более 30 лет |
3 |
7 |
10 |
20 |
|
Неизвестно |
2 |
– |
1 |
3 |
|
Всего |
78 |
75 |
77 |
230 |
тяжении первой половины 1750-х гг.: Вологодского (за 1752 г.), Луцкого (1754 г.) и Олонецкого (1755 г.) 1. В ряде предыдущих публикаций мы уже касались истории данных воинских частей, в том числе и обстоятельств появления их на территории Сибири с 1745 г. [Дмитриев, 2009а; 2011а]. Опираясь на указанные источники, мы постарались выявить и проанализировать доступные данные о численности, кадровом составе, карьере, сословном происхождении и материальном положении офицеров в составе этих трех полков. Всего нами было учтено 230 чел. в чинах штаб-, обер- и унтер-офицеров, исключая так называемые должности «унтер-штаба» (полковые комиссары, адъютанты, подьячие, писари, лекари), а также капралов. Из них 78 чел. числились в составе Вологодского полка, 75 – Луцкого, 77 – Олонецкого. При этом нами были исключены из списков Луцкого полка трое, из списков Олонецкого полка – двое офицеров, успевших за предыдущие годы перевестись из Вологодского полка, чтобы избежать дублирования сведений по одним и тем же лицам.
Данные о возрастных показателях свидетельствуют, что почти половина драгунских офицеров этих полков на момент проведения инспекторских проверок, когда составлялись списки, находились в возрасте от 31 до 40 лет (93 чел., чуть более 40 %), т. е. уже обладали достаточным служебным стажем и опытом, сохраняя при этом здоровье и физические силы. Почти равными по численности оказались две следующие возрастные группы: от 21 до 30 лет (52 чел.) и от 41 до 50 лет (51 чел.), что давало вместе еще 45 %.
Лиц, чей возраст не укладывался в эти рамки, таким образом, было совсем немного, лишь 29 чел., относительно еще 5 чел. информации нет. Представим все эти данные по каждому полку (табл. 1).
Старейшим офицером по списку Вологодского полка 1752 г. числился прапорщик Прохор Салтанов, родившийся еще в 1683 г. В 1754 г. мы обнаруживаем его в том же чине уже в составе Луцкого полка, а в 1755 г. он наконец получил отставку согласно указу Военной коллегии, пробыв на военной службе, таким образом, 41 год 2. В Луцком полку на 1754 г. другим заслуженным ветераном, кроме него, можно признать вахмистра Филиппа Коренева (1685 г. р.), также получившего отставку в 1755 г. после 33 лет службы 3. А в Олонецком полку мы находим прапорщика Лариона Белого, родившегося в 1688 г. и служившего с 20-летнего возраста уже в течение 47 лет. Кроме них, можем отметить самого командующего Сибирским корпусом, бригадира и командира этого полка Джона Крафта (1693 г. р.) [Путинцев, 1891. С. 31], британца по происхождению, прибывшего в Россию в 1723 г., и его сослуживца подполковника Иоганна Христофора Штруфа (1694 г. р.), уроженца Мекленбурга, начавшего свою карьеру в 1720 г. 4
Самым юным из всех офицеров оказался подпрапорщик Олонецкого полка Василий Тонких, родившийся в 1735 г., но уже с 1748 г., как солдатский сын, числившийся на военной службе 5. В Луцком полку нес службу каптенармус Григорий Колокольни-ков (1733 г. р.), чья военная карьера начиналась аналогичным образом 6. А в составе Вологодского полка сразу несколько человек родились в 1733 г.: каптенармус Семен Гедеин, подпрапорщики Василий Долбилов и Трофим Тузовский. Двое из них начали свою службу в 1747 г., В. Долбилов – в 1749 г. 7 Упомянем также старшего вахмистра гренадерской роты Александра Ифлан-та, сына полковника Николая Ифланта, бывшего командира этого полка, как раз в 1752 г. получившего отставку с награждением бригадирским чином. Александр родился в 1732 г., поступил в полк своего отца в 1750 г., однако всего за несколько месяцев успел «проскочить» почти все унтер-офицерские чины 8. Родство с полковым или корпусным командиром вообще давало шансы на чрезвычайно быстрое повышение: так, Петр Киндерман, сын первого командующего Сибирским корпусом генерал-майора Христиана Киндермана, начал службу в 14-летнем возрасте, а к 32 годам уже сделался секунд-майором Вологодского полка 9.
Сходную картину мы получаем и при подсчете продолжительности военной карьеры всех драгунских офицеров. У значительного большинства из них стаж службы колебался в пределах от 10 до 25 лет, а молодых новобранцев, как и заслуженных ветеранов, было не слишком много. Представим результаты произведенных нами подсчетов в табл. 2.
Таким образом, мы видим, что более половины офицеров находились на военной службе второй десяток лет, а еще чуть менее четверти «тянули лямку» в течение уже третьего десятилетия. Однако из этого совсем не следовало, что выслуга лет могла дать существенное повышение в звании. Например, в Вологодском полку двое унтер-офицеров, ротные квартирмейстеры Петр Бредихин и Артамон Белехов, несли службу 32 года и 30 лет соответственно, но так и не продвинулись даже до чина вахмистра 10. Каптенармус Луцкого полка Корнилий Ага-лин находился на службе 36 лет, его сослуживец вахмистр Филипп Коренев – 32 года, столько же – ротный квартирмейстер Олонецкого полка Федор Кондратьев 11. Впрочем, этому есть свое объяснение. Все перечисленные офицеры, за исключением одного человека (А. Белехова), были неграмотными, а к середине века данное обстоятельство уже представляло собой серьезное препятствие для успешного продвижения по лестнице военных чинов. Еще со времен Анны Иоанновны правительство всячески стремилось поднять уровень образованности офицерского корпуса, в частности, запрещая производство неграмотных в офицеры [Леонов, Ульянов, 1995. С. 67, 68]. Тем не менее даже к первой половине 1750-х гг. решить эту задачу полностью еще не удалось.
С другой стороны, можно привести ряд примеров, когда повышение в званиях осуществлялось ускоренными темпами. Капитан Олонецкого полка Григорий Леонтьев дослужился до высшего обер-офицерского звания всего за полтора десятилетия, попав в ряды армии 20-летним рядовым драгуном и даже не принадлежа к «благородному шляхетству» (он был из семьи бывшего рейтара). Начавший карьеру одновременно с ним его сослуживец Матвей Костин к 1755 г. сделался прапорщиком, будучи при этом на четыре года моложе и происходя из солдатских детей 12. Капитану Луцкого полка Александру Долгову исполнилось всего 36 лет, а на службе он находился только 12 лет, но он, как было сказано в его послужном списке, был «выпущен из придворных лакеев» сразу в подпоручики, т. е. миновал все унтер-офицерские звания. Поручик того же полка Сергей Ульянов достиг своего нынешнего чина за те же 12 лет службы, начав с низших ступеней служебной лестницы 13. Его брат Иван всего за 7 лет стал прапорщиком в Вологодском полку; Сергею Степанову, чтобы достигнуть в нем этого же чина, понадобилось 9 лет 14. Наконец, Петр Юшков сделался подполковником еще в 1748 г., прослужив всего 18 лет и будучи сам всего 29 лет от роду 15.
Как правило, зачисление на военную службу происходило в интервале между 15 и 25 годами от рождения, шла ли речь о дворянских отпрысках или о рекрутах из крестьян. Многократно упоминавшаяся мемуаристами-современниками практика фиктивного зачисления дворянских сыновей на военную службу с раннего детства к середине XVIII в. еще не получила особенного распространения [Болотов, 1986. С. 42, 43]. Пользовались этой возможностью, как правило, лишь выходцы из более-менее обеспеченных семей или знатных аристократиче- ских фамилий, попадавшие в гвардию, тогда как даже массе мелкопоместного провинциального дворянства эти каналы были практически недоступны. Классическим примером, на который всегда ссылаются исследователи, является в этом плане биография будущего фельдмаршала А. В. Суворова [Леонов, Ульянов, 1995. С. 67; Фаизова, 1999. С. 54, 58, 59]. Упоминаемые выше аналогичные случаи весьма немногочисленны.
С точки зрения сословного происхождения состав офицерского корпуса русской армии в данный период времени также оказывался достаточно пестрым. Хотя выходцы из дворян составляли половину среди всех полковых офицеров, зато другая половина являла собой картину очень разнообразную. Здесь мы встречаем и бывших крестьян, и солдатских детей, и однодворцев, и представителей купечества, и состоявших на военной службе в России иностранцев. В одной из работ Г. Ф. Быкони уже было кратко проанализировано сословное происхождение офицеров интересующих нас воинских частей, однако автор, к сожалению, не приводит там полных цифр по каждому полку и каких-либо конкретных биографических данных по отдельным людям [1985. С. 195, 197, 199, 200]. Все подсчитанные нами данные суммированы в табл. 3.
При этом, хотя полки находились в Сибири уже с 1745 г., местных уроженцев насчитывалось по всем спискам лишь 13 чел., а подавляющее большинство среди офицеров русского происхождения составляли выходцы из европейских губерний России. Кроме того, отнюдь не все обер-офицеры принадлежали к дворянским фамилиям: в чинах от прапорщика и выше мы обнаруживаем почти два десятка людей, получивших, таким образом, возможность выслужить потомственное дворянство, согласно Табели о рангах полагавшееся с достижением первого обер-офицерского звания. Например, капитан Вологодского полка Иван Чуносов происходил из солдатских детей г. Киева, капитан Олонецкого полка Александр Хоть-янов показал себя подьяческим сыном из г. Путивля, а его сослуживец Семен Шустов принадлежал к именитому купечеству («из гостиных внучат жалованных гостей») 16. Прапорщик Луцкого полка Василий Горбу-
Сословное происхождение драгунских офицеров в полевых полках Сибири в первой половине 1750-х гг.
Таблица 3
|
Происхождение |
Численность владельцев по полкам (чел.) |
Всего |
||
|
Вологодский 1752 г. |
Луцкий 1754 г. |
Олонецкий 1755 г. |
||
|
Дворяне |
45 |
46 |
25 |
116 |
|
Военнослужащие (рейтары, солдаты, драгуны) |
11 |
11 |
19 |
41 |
|
Крестьяне и дворовые |
2 |
2 |
8 |
12 |
|
Другие (однодворцы, купцы, посадские, церковнослужители) |
12 |
10 |
8 |
30 |
|
Иностранцы (включая остзейцев) |
7 |
6 |
16 |
29 |
|
Неизвестно |
1 |
– |
1 |
2 |
|
Всего |
78 |
75 |
77 |
230 |
Число душ крепостных у офицеров-дворян драгунских полков Сибири в первой половине 1750-х гг.
Таблица 4
|
Число душ мужского пола |
Численность владельцев по полкам (чел.) |
Всего |
||
|
Вологодский 1752 г. |
Луцкий 1754 г. |
Олонецкий 1755 г. |
||
|
До 20 |
13 |
8 |
4 |
25 |
|
21–50 |
8 |
6 |
4 |
18 |
|
51–100 |
5 |
4 |
4 |
13 |
|
Свыше 100 |
5 |
– |
– |
5 |
|
За родственниками (отцами, матерями, братьями) |
14 |
23 |
8 |
45 |
|
Не имели |
– |
5 |
4 |
9 |
|
Неизвестно |
– |
– |
1 |
1 |
|
Всего |
45 |
46 |
25 |
116 |
нов был сыном рейтара из г. Великие Луки, служившие вместе с ним в аналогичном звании Фрол Борисов и Яков Иванов представляли семьи церковнослужителей Казанского и Ржевского уездов соответственно 17.
Из 13 сибиряков дворянами показывали себя лишь двое, а местным уроженцем мог считаться только один из этих двоих – ротный квартирмейстер Олонецкого полка Василий Костыгин родился в Тобольске. Относительно же второго, ротного каптенармуса Вологодского полка Семена Гедеи-на, сказано, что он происходит из дворян (место рождения неизвестно), а «испомещен в Суерском остроге Сибирской губернии», т. е. стал там владельцем земли 18. Еще два человека были выходцами из духовного сословия, у остальных девяти отцы служили в Сибири солдатами и драгунами, так что сыновья пошли по их стопам. Некоторые из них относительно быстро достигали обер-офицерского чина: так, Савва Волынкин, солдатский сын из Тобольска, сделался прапорщиком в 1751 г. в возрасте всего лишь 30 лет. Его ровесник Яков Уксусников, «из поповских детей» г. Мангазеи, был произведен в обер-офицеры двумя годами ранее, еще в 1749 г. 19
Обращаясь к изучению сведений о служебной карьере и материальном положении офицеров-дворян, мы выяснили, что представители «шляхетства», состоявшие в драгунских полках Сибири, выглядели фактически единым целым. В подавляющем большинстве своем это были выходцы из мелкопоместных дворян европейских губерний, для которых военная служба являлась единственным способом чего-то добиться в жизни. Вообще, надо заметить, что само по себе дворянское звание в Российской империи XVIII в. значило очень мало, если его носители не имели крепостных. Именно этот показатель, а не родословное происхождение, приобретает решающее значение в XVIII столетии для определения принадлежности того или иного лица к «благородному шляхетству». Сохранявшаяся возможность выслужить дворянство путем достижения соответствующих чинов Табели о рангах еще не гарантировала человеку наделение его землями и крепостными. С. М. Троицкий, изучая состав находившихся в «статской» службе представителей бюрократического аппарата империи, отметил, что «становясь личными, а затем и потомственными дворянами, чиновники не превращались в сколько-нибудь крупных помещиков» [1974. С. 302].
Проанализированные нами данные о дворянах, находившихся на военной службе, только подтверждают эту тенденцию – подавляющее большинство среди них составляли мелкопоместные или даже неимущие землевладельцы. Тех же, кто могли рассчитывать на получение сколько-нибудь значимых доходов от собственных имений, оказывались единицы. И. В. Фаизова приводит сделанные еще ее предшественниками подсчеты, согласно которым и в 1720-х, и в 1770-х гг. доля лиц, владевших менее чем 20 душами крепостных крестьян мужского пола, составляла более половины от численности всех дворян-помещиков в стране (59 %). И это при том, что цифра в 20 душ как раз и считалась границей, отделявшей неимущих землевладельцев от хоть сколько-нибудь соответствовавших тогдашнему «прожиточному минимуму» [Фаизова, 1999. С. 48–51]. Данные о душевладении офице- тайских земель и проектировании там новой укрепленной линии [Колесников, 1973. С. 87, 88].
ров-дворян из всех трех драгунских полков представлены в табл. 4.
Как видим, действительными (единоличными) владельцами крепостных душ являлись всего 61 чел. из 116, т. е. чуть более половины среди всех офицеров-дворян. При этом даже из них более 40 % оказывались практически неимущими, располагая от 2–3 до 20 душ крепостных мужского пола (далее м. п.). Данные относительно владельцев имений, состоявших на военной службе, вполне четко демонстрируют обратно пропорциональную зависимость: с ростом числа крепостных, находившихся в их собственности, сокращается доля их хозяев среди полковых офицеров. Фактически мы наблюдаем здесь ту же картину, которую нарисовал в отношении гражданской бюрократии С. М. Троицкий, свидетельствовавшую о преобладании «средних и особенно мелких душевладельцев среди чиновничества России в середине XVIII в.» [1974. С. 302]. При этом, как уже отмечено исследователями, схожая картина наблюдалась даже в гвардии, где именно мелкопоместные дворяне составляли устойчивое большинство среди рядовых и унтер-офицерских чинов [Смирнов, 1989. С. 89, 100; Демкин, 2009. С. 170– 174].
Так, поручик Вологодского полка Емельян Яншин был владельцем 14 душ м. п. в одноименной деревне Пронского уезда, а у его сослуживца Михаила Терпигорева («пожалован в поручики лейб-гвардии конного полка из вахмистров») насчитывалось всего 20 душ м. п. 20 В Луцком полку капитан Федор Ягнетев и поручик Иван Стремо-ухов являлись владельцами 15 и 10 душ м. п. соответственно 21. Ряд офицеров могли считать себя чуть более обеспеченными: у капитана Олонецкого полка Е. Офросимова было 40 душ м. п., капитан Луцкого полка Степан Сумароков числил за собой 35 душ м. п. 22 К помещикам среднего достатка относились, например, поручик Вологодского полка Осип Шатов (91 душа м. п.) и поручик Олонецкого полка Тимофей Веригин (67 душ м. п.) 23. Состоятельных владельцев имений мы обнаруживаем только в Вологодском полку: у подполковника Петра Юшкова числилось 450 душ м. п., поручик Семен Ергольский владел 314 душами м. п., подпоручик гренадерской роты Михаил Лавров имел 160 душ м. п., и даже ротный каптенармус Сергей Лакреев располагал 376 душами м. п. 24 Однако такие богатые помещики в рядах армейского офицерства встречались мало.
Не редкостью оказывалась и ситуация, при которой владельцами крепостных крестьян оказывались близкие родственники состоявших на службе офицеров, их родители или братья. В некоторых случаях имело место совместное владение землями и душами у родных братьев. В Луцком полку вахмистр Терентий Звягин имел вместе со своим братом 18 душ м. п. в дер. Гнездовой Смоленского уезда, а ротный квартирмейстер Федор Ширяев владел совместно с братом 30 душами м. п. в Суздальском уезде. Наконец, прапорщик Вологодского полка С. Степанов числил 40 душ м. п. за собой, своим братом и их матерью одновременно 25. Кстати, этот факт показывает, что мнение ряда историков о быстром дроблении дворянских имений после отмены петровского указа о майорате с 1730 г. выглядит несколько преувеличенным. Отнюдь не все помещики-землевладельцы разделяли свою собственность между всеми наследниками, завещая каждому отдельную часть имения. Были, наконец, и вовсе не имевшие крепостных, а лишь «испомещенные» в своих имениях, от которых, однако, они не могли рассчитывать ни на какие доходы: младший вахмистр гренадерской роты Луцкого полка Василий Апрелев, ротный каптенармус того же полка Петр Нестеров, Герасим и Осип Свитины (отец и сын), занимавшие в Олонецком полку должности ротных квартирмейстера и каптенармуса соответственно 26.
Все эти данные дают нам основание заключить, что большинство офицеров-дворян, служивших в полевых армейских полках, не могли рассчитывать на доходы от своих имений, чтобы поддерживать стабильный уровень материального благополучия. Именно поэтому изданный еще в 1736 г. императрицей Анной Иоанновной манифест об ограничении срока воинской службы дворян 25 годами не привел к оттоку «шляхтичей» из рядов вооруженных сил. Можно привести целый ряд примеров того, как офицеры, уже выслужившие указанный срок, продолжали «тянуть лямку», прекрасно понимая, что не смогут прожить на доходы от своих имений, выйдя в отставку. На что могли рассчитывать, скажем, капитаны Вологодского полка Федор Лысцов и Иван Челюскин, к 1752 г. служившие уже в течение 29 и 33 лет соответственно? Первый числил за собой 22 души м. п. в с. Кайдано-ве Переяславль-Рязанской провинции Московской губернии, второй располагал лишь 14 душами м. п. в с. Ивановском Вологодского уезда 27. Совершенно очевидно, что, выйдя в отставку, эти офицеры, лишаясь казенного жалования, не смогли бы ничего приобрести взамен, поскольку ожидать доходов от таких имений было вряд ли возможно.
В Луцком полку капитан Григорий Карташев, прослужив в армии 32 года, так и не стал владельцем имения, поскольку был еще жив его отец, за которым были записаны 25 душ м. п. в с. Воротицах Белевского уезда. Его сослуживец Петр Молчанов за 28 лет службы также не унаследовал отцовского имения (он происходил из Суздальского уезда), поэтому получил собственные владения в Симбирском уезде, где за ним числилось лишь 12 душ м. п. 28 Поручик Олонецкого полка Ларион Фролов (33 года службы), происходивший из дворян Ряж-ского уезда, был наделен землями в Казанской губернии, а крепостных у него было всего 10 душ м. п. 29 Подобных случаев мы можем приводить еще множество, однако, думается, общая картина вполне ясна. Кстати, это показывает, что дворянское сословие в России середины XVIII в. представляло собой отнюдь не господствующий класс, в интересах которого только и действует верховная власть, а скорее конгломерат в большинстве своем мелких и мельчайших собственников земли и крепостных крестьян. Как справедливо указывает Д. Ливен, такое положение и заставляло большинство дворян стремиться на государственную службу, ведь даже провинциальный дворянин «мог рассчитывать на выгодную и престижную карьеру на царской военной или гражданской службе» [Ливен, 2007. С. 396, 397]. Многочисленные примеры того, как складывалась военная карьера представителей нескольких разных ветвей одного дворянского рода, можно найти в мемуарах М. В. Данилова [1991. С. 289–299].
Наконец, следует упомянуть и о тех иностранцах, которые волей судьбы оказались в это время на сибирской службе. Данному вопросу специально посвящена одна из наших недавних публикаций [Дмитриев, 2011б], поэтому здесь мы сочли нужным лишь коротко остановиться на некоторых примерах из жизненного и карьерного пути этих людей. Самой необычной, пожалуй, оказалась судьба богемского ротмистра барона Стефана де Жеффи (трудно сказать, кем он был по происхождению: скорее немцем или австрийцем, нежели чехом), вступившего в русскую службу в 1750 г., однако вскоре дезертировавшего из рядов армии и пробравшегося через границу в Польшу. За это он был заочно приговорен к смертной казни: «Положено было, если он пойман будет, без всякой милости его повесить». Однако в 1753 г. он прибыл в Петербург, «явился при дворе к дежурному генерал-адъютанту», затем согласился перейти в православие («принял веру греческого исповедания»), после чего был прощен и снова принят на службу в офицерским чине. В январе 1754 г. он был направлен в Сибирь, его зачислили капитаном в Олонецкий полк 30.
Переход в православную веру был вообще-то редкостью, большинство иностранцев, даже долгие годы находившихся в России, предпочитали придерживаться собственных религиозных убеждений. Нам известен лишь еще один пример подобного рода: капитан Вологодского полка Стивен Уэбб, лондонский уроженец, уже более 20 лет состоявший на русской военной службе, также предпочел «греческую веру» 31. Очень интересная метаморфоза произошла с Иоганном-Генрихом Апелгрином, который в источниках называется то датчанином, родившимся в Петербурге, то шведским дворянином. В возрасте 18 лет он поступил на военную службу, через 5 лет (в 1746 г.) сде- лался полковым лекарем в Луцком полку, затем перешел в Вологодский полк. А уже в 1754 г. мы застаем его в чине подпоручика гренадерской роты Олонецкого полка 32. Трудно представить себе, каким образом полковой лекарь смог сделаться офицером.
Кое-кто из офицеров-иностранцев большую часть времени находились не в расположении своих частей, а в столице при ком-либо из «сиятельных особ», только числясь на службе в соответствующем полку. Так, Даниэль фон Бернер (очевидно, лифляндец или курляндец) в 1747 г. был произведен в поручики Вологодского полка из конюшенных комиссаров в канцелярии Шляхетского (кадетского) корпуса в Петербурге, однако к новому месту службы так и не поехал, получив место при канцлере графе А. П. Бестужеве-Рюмине «для посылок» (т. е. став у него доверенным курьером или вестовым). В 1750 г. он был произведен в капитаны Луцкого полка, однако и в 1754 г. продолжал оставаться рядом со своим покровителем, так и не побывав в Сибири 33.
Отметим также, что командирами всех трех полков были именно выходцы из Западной Европы. Мы уже упоминали, что Олонецким полком командовал бригадир Д. Крафт, одновременно возглавлявший и Сибирский корпус. В Вологодском полку Н. Ифланта сменил в 1752 г. полковник Симон Траню (предположительно, француз), о котором, впрочем, нет почти никаких данных, поскольку он еще не успел прибыть в свой полк. Известно лишь, что перед этим назначением он служил в Ингерманландском полку в чине подполковника 34. А в Луцком полку австрийца Иоганна фон Эйкина тогда же заменил в должности командира Шарль Дебонг, француз, перебравшийся на русскую службу из Швеции еще в последние годы Северной войны 35. Кстати, эти факты опровергают расхожее представление о том, что в середине XVIII в., следуя политической установке императрицы Елизаветы Петровны, русским на военной и гражданской службе отдавалось предпочтение перед иностранцами.
Таким образом, на изученном примере драгунских полков, дислоцированных в Си- бири, мы можем заключить, что офицерский корпус русской армии к середине XVIII столетия оставался в значительной степени неоднородным. Прежде всего, обращает на себя внимание принадлежность лишь половины полковых офицеров к дворянскому сословию, а среди последних – заметное преобладание мелких или даже практически неимущих земле- и душевладельцев. Из этого мы вправе заключить, что объединение в рядах вооруженных сил выходцев из различных сословных групп способствовало отсутствию в армейской среде тех антагонизмов, которых можно было бы ожидать, учитывая противоположную направленность социальных интересов дворян и массы рядовых военнослужащих, набиравшихся из тяглых слоев. Данным обстоятельством, в свою очередь, во многом объяснялись дисциплинированность и высокие боевые качества русских офицеров и солдат, что превращало армию в почти идеальное орудие верховной власти для решения любых внешне- и внутриполитических задач империи.
THE OFFICER CORPS OF RUSSIAN ARMY’S DRAGOON REGIMENTS IN SIBERIA THROUGH THE 1st HALF OF 1750s