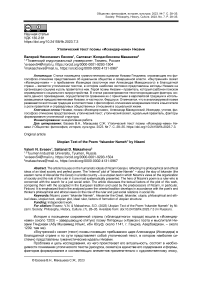Утопический текст поэмы "Искендер-наме" Низами
Автор: Евсеев В.Н., Макашева С.Ж.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена гуманистическим идеалам Низами Гянджеви, отражающим его философско-этические представления об идеальном обществе и совершенной власти. «Внутренний» сюжет «Искендер-наме» - о пребывании Искендера (восточное имя Александра Македонского) в благодатной стране - является утопическим текстом, в котором наиболее системно представлены взгляды Низами на организацию социума и роль правителя в нем. Герой поэмы Низами - правитель, который озабочен поиском справедливого социального мироустройства. В статье рассматриваются текстопорождающие факторы сюжета данного произведения, осуществляется сравнение их с принятыми в европейской традиции и использовавшимися предшественниками Низами, в частности, Фирдоуси. Отмечается, что в анализируемой поэме развивается восточная традиция в соответствии с философско-этическими воззрениями поэта и мыслителя о роли правителя и справедливых общественных отношений в социальной жизни.
Низами, поэма "искендер-наме", александр македонский, искендер, утопия, философско-этические представления, утопический текст, утопический сюжет, идеальный правитель, факторы формирования утопической структуры
Короткий адрес: https://sciup.org/149143452
IDR: 149143452 | УДК: 130.2:81 | DOI: 10.24158/fik.2023.7.3
Текст научной статьи Утопический текст поэмы "Искендер-наме" Низами
1,2Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия , ,
,
,
История о посещении сокровенной страны («благодатного» города) вошла в «Искендер-наме» (около 1203) – завершающую (пятую) поэму Пятерицы («Хамсе») поэта и мыслителя Низами Гянджеви (Абу Мухаммед Ильяс, ибн Юсуф; около 1141, г. Ганджа, Азербайджан, – около 1209, там же).
«Внутренний» сюжет (текст) поэмы посвящен пребыванию царя Александра (Искендера) в благодатной стране и по сути представляет собой утопический текст, в котором наиболее системно представлены гуманистические идеалы Низами.
Проблема и цель исследования, из чего проистекает его актуальность, состоят в необходимости понимании утопического текста (дискурса, сюжета) в единстве его содержания и формы, факторов формирования и составляющих элементов применительно к художественному эпосу,
к которому относится поэма Низами, представляя собой лироэпическое произведение. Подобного исследования его до сих пор в низамиеведении не проводилось.
Задачи работы – выявление набора структурных элементов утопического текста (сюжета, дискурса) в европейской и восточной традициях. Повествование поэмы Низами выдержано в восточной традиции. Рассмотрим текстопорождающие элементы и факторы ее сюжета и сравним их с принятыми в европейской традиции. При этом мы будем опираться на структурный и сравнительный методы исследования.
Европейская утопическая традиция развивалась от мифов о «золотом веке», от народных (страна Кокейн и др.), эллинистических утопий Ямбула, Евгемера, «Государства» Платона1 к рационалистической «Утопии» Томаса Мора (1516)2. В них представлено описание справедливого общества, разумеется, в рамках доминирующей картины мира и человека – античной, средневековой или возрожденческой. В средневековой Руси бытовали народные легенды о Китеж-граде3, о далекой благодатной стране, в книжной версии были популярны утопии типа переводного «Сказания об Индийском царстве»4.
Все эти разнородные по содержанию тексты характеризуются некоторыми общими устойчивыми признаками.
Утопия (утопический текст) – описание вымышленного общества с идеальным устройством, в котором жизнь индивида и социум тесным образом связаны, между ними выстроены гармонические отношения, в том числе и в связях с природной средой. Литературные (книжные) утопии наследовали древние мифы о «золотом веке» и легенды об «островах блаженных». Они развивались параллельно с народно-утопическими легендами о счастливой земле («стороне» света), с религиозной эсхатологией «небесного рая», но со временем эмансипировались от них. В своем развитии утопические тексты представляют собой явление светской литературы и теоретического ума, склонного к воображению и способного в стройном описании предложить не менее стройную картину наилучшего состояния общественной жизни. Поэтому утопия, будучи «проектом» идеального человеческого общежития, обычно содержит описание картин процветающей страны, но страны далекой (сокровенной) (Евсеев, 2000). Латинское слово «утопия», представляющее собой кальку с греческого языка, в игре значениями может быть двояко истолковано: «Утопия» – место (topos), которого нет; «Утопия» – благословенная (блаженная) земля. Платон задумывал свой трактат как проект идеального государства и программу действий по его реализации, считая ее доступной для практики греческого полиса или тирана (правителя)5. Томас Мор, государственный практик-реалист Англии ХVI в., в названии своего труда6 отметил условность созданного им образа идеальной страны. Он предложил мысленное путешествие в иной (параллельный) земной мир своему читателю – современнику великих географических открытий, актуализировавших интерес к жанру не религиозного «хождения», а «светского» путешествия (секуляризация жизни в эпоху Возрождения является тому причиной). Созданный воображением Мора «мир» был ценностным «пространством» (топосом) идеала социальной гармонии, справедливости. Идеал соответствовал культурной эпохе, современной автору. Жанровая модель в единстве ее смысла и формы была создана.
Содержательная (и повествовательная) основа утопии – описание идеального устройства общества или государства.
Жанр романа Томаса Мора определялся комбинацией трех элементов утопического дискурса. Два из них (мотив путешествия и риторический диалог) подчинены главному – описанию социальной гармонии. Они в свою очередь обуславливают сюжетно-композиционные особенности, специфику хронотопа и повествования утопии как книжного произведения. Постулирование неистинности (или конфликтности) наличного бытия – отправной пункт замысла. Антитеза порождает контраст двух миров – реального (как бы соответствующего наличной, видимой автору и читателю действительности) и идеального, представленного образами процветающей страны, совершенного общества. Мысленное восхождение к идеалу представлено в утопии в виде путешествия героя (героев) произведения в утопическую страну и в форме риторического диалога, защищающего путем сравнения двух миров (наличного и идеального) целесообразность установлений утопического общества. «Утопия» Мора родилась на скрещении двух традиций – философского диалога и романа путешествий (приключенческого жанра) (Гончаров, 1990).
Жанровым «ядром» книжной утопии являются образы идеального пространства (места, процветающей страны, благодатного города) или времени (общества будущего). В повествовании они выступают «модельно» – как проект социальной гармонии, альтернативный несовершенству людских отношений. Утопия вначале формировалась как пространственная модель, соответствуя античной или средневековой картине мира. Время в эти периоды не играло существенной роли в утопиях, оно было атрибутировано пространством и выражало, скорее, категорию настоящего или прошлого времени. (В утопиях Нового времени – в связи с развитыми представлениями о линейности, необратимости исторического времени, о динамике общественной жизни – идеал стал проецироваться не в какое-то «параллельное» («потаенное») пространство, а в будущее время.)
Мы охарактеризовали признаки европейской утопической традиции. В существенных проявлениях они обнаруживаются и в поэме «Искендер-наме», в рассказе о посещении Искендером благодатного города, о его встрече с жителями «совершенной» страны, когда в диалоге с ними выясняются принципы устройства идеальных общественных отношений в «благодатном» городе. Вместе с тем эти признаки соответствуют восточной книжной традиции – с учетом макросюжета об Искандере.
Исследователь творчества Низами Е.Э. Бертельс, детализируя утопическую составляющую «Искендер-наме», отмечал, что поэт-мыслитель не жил в эпоху «великих географических открытий», когда и сформировался окончательно жанр литературной утопии: «…Низами учился совершенно не тому, чему учили нас. <…> …он жил в XII веке и не мог знать по меньшей мере трех вещей: великих географических открытий, Ньютоновой механики и эволюционной теории» (Бертельс, 1968: 8). Поэма Низами является своего рода средневековой «географией души» – души, как бы путешествующей по мифологическим «странам». «“География души” Низами, – поясняет свои наблюдения исследователь, – имеет аналогии, символические соответствия в географии земной. Ведь для Низами человек – “малая вселенная”, а вселенная – “большой человек”, они построены аналогично… <…> Чтобы понять, почему источник живой воды находится на Крайнем Севере, в “стране мрака” (“Искендер-наме”), надо знать, что для Низами полярная ночь – земная аналогия погружения во мрак души человека, где бьется живой родник мистического прозрения. Лежащая на севере всего в сорока днях пути (срок поста перед медитацией) страна, где нет богатых и бедных, где нет угнетения, гнева, болезни и смерти – это также и “град божий” в душе человека, “царство божие внутри нас”, а не только чисто земная социальная рациональная утопия, во всем подобная европейским. Описание тела и души человека как звездного неба и как города, страны, где правит падишах-интеллект, обычно для суфиев времен Низами, и это несколько сбивает с толку при чтении его поэм» (Бертельс, 1968: 15).
Однако эта «география души» в поэме «Искендер-наме» отправляет нас не только к средневековой мистической традиции, но и к традиции вполне логической, рациональной, сформировавшейся в средневековой восточной литературе, в персидско-иранской словесности. Речь идет о поэтической восточной «александрии», точнее – «искандерии».
Логической композиционной структурой поэмы, на которую «нанизывается» весь материал произведения, является «история» главного героя поэмы – Искендера (образ Александра Македонского (356–323 до н.э. по официальной историографии), интерпретированный в восточной традиции). К данной фигуре обращались многие поэты и мыслители Ближнего Востока, в том числе Фирдоуси (около 934–1020 или 1026/30), Низами, Джами (1414–1492), Навои (1441–1501) и др. В европейских странах «биография» македонского царя (завоевателя восточных стран и создателя могущественной многонациональной империи) служила материалом для создания описания мудрого и справедливого правителя («типичный» предмет описания в позднеантичной моралистической литературе). Канонизированные в образе Александра выдающиеся качества и «идеальная биография» (судьба) становятся также благодатным материалом для постановки в философско-политической литературе вопросов о месте и роли человека в мире и обществе, проблем справедливого правления государя, стремящегося к «счастью» – в своей судьбе и в жизни своих подданных (и всё это обрастает также народными и книжными легендами о судьбе выдающегося человека, как на античной, а затем на европейской территории, так и на Востоке).
И свое место здесь занимает восточная средневековая «искендерия». Макросюжет об Александре позволял поэтам ставить вопросы о «совершенной» власти и «идеальном» правителе. Поэтическая «история» македонского царя становилась «историей» справедливого правления, а сами поэмы посвящались восточным деспотам – в надежде, что к советам авторов поэм прислушаются.
У истоков восточного макросюжета об Александре (Искандаре) стоит прямой предшественник Низами – Абулкасим Фирдоуси, которого Низами, писавший об Александре через 300 лет после, ссылавшийся неоднократно на «Шах-наме», особенно в прологе «Искендер-наме», в своих сочинениях величал не иначе, как «хаким» (мудрец, учитель).
В поэме «Искендер-наме» образ Александра становится центральным. Композиционная структура произведения включает две части: «Шараф-наме» («Книга славы») и «Икбал-наме», или иначе – «Кераб-наме» («Книга судьбы/счастья»). Первая из названных описывает на основе восточных легенд жизнь и подвиги Искендера, то есть в ней с сохранением хронологического порядка рассказывается о военных походах, завоеваниях полководца. Вторая часть («Икбал-наме») состоит из двух больших разделов, содержание которых характеризует Искендера как мудреца и пророка.
Центральный герой предстает не только полководцем, военные походы которого послужили «собиранию» территории огромной державы (от Дуная до Инда), но и в положительном ореоле «мудреца», «пророка», объединителя многих народов, культур Запада и Востока. Низами, как и Фирдоуси, не обошел вниманием завоевательный характер походов Искендера в восточные пределы, сопровождавшихся народными бедствиями, однако он создает образ-обобщение, не схожий, разумеется, с историческим прототипом. Герой поэмы Низами – справедливый правитель, водворяющий порядок на новых землях, озабоченный благополучием населения, строительством городов и восстановлением разрушенного войной хозяйства подвластной ему территории.
Он правитель-воитель, способный к обретению светской мудрости, он изображается пророком, носителем истинной веры, которому доступно тайное знание небес, Откровение Создателя. Пророческий сан объясняет избранничество Искендера, его миссию: он предназначен небесами для возвещения истины народам и странам, призван для свершения миссии объехать всю землю, пройти целый ряд испытаний для подтверждения пророческого сана (Гулизаде, 1984: 333). Низами опирается на кораническую традицию: в мусульманстве Искандар причислен к второстепенным пророкам, зафиксирован, по толкованиям экзегетов, под именем Зу-л-карнайна, «Двурогого»1. «Двурогий» – покоривший оба «рога» обозримой ойкумены – Запад и Восток.
Искендер постигает и тайное знание, доступное ему в Откровении, и науки «явные» – светские, вбирает в свой опыт мудрость культур и народов, с которыми он встречается. Отправляясь в походы, он берет в качестве багажа знаний «книги мудрости» Аристотеля, Платона и Сократа.
У восточных поэтов, мечтающих о «мудреце на троне», Искандар – «зерцало» (идеализированный образ мудрого, справедливого правителя) для всех правителей мира – находится в постоянном поиске истины. Герой «Искендер-наме» – это образ восточного «ренессансного» человека – универсального по обширным познаниям, гуманистически ориентированного в деятельности. Низами постоянно подчеркивает тягу Искендера к мудрости, к процессу познания.
Странствия героя – сюжетно-образная «матрица» духовного пути (развития) человека, композиционная структура, воплощающая «способ» расширения горизонта бытия личности в ее связях с большим миром. Путь «мудрого правителя на троне» акцентирован структурой: во второй части поэмы («Икбал-наме») Искендер отправляется не в завоевательный поход, а в путешествия, посетив разные страны в поисках истины, общественной гармонии и социальной справедливости.
В четвертом путешествии на север Искандер и открывает сокровенную страну – «благодатный город» с идеальным общественным устройством. Описание законов, обычаев жителей страны представляет собой социальную утопию Низами, а характеристика гармонии, царящей в представленном им городе, – квинтэссенцию гуманистических идеалов поэта-мыслителя и сердцевину композиционной структуры поэмы. Но таким образом и завершается миссия Искендера, нашедшего в странствиях искомый идеал человеческого общежития.
Искандер в восточной литературе – это образ и идеального правителя, и завоевателя, и, если оттенить логику композиционной (и смысловой) структуры поэмы Низами, – «медиума»-пу-тешественника, соединяющего в откровении и в «странствиях» разные ценностные миры: «Ис-кендер, целый мир обошедший походом , / Войском взвихривший пыль подо всем небосводом »2.
Сокровенная страна как благодатное место приоткрывается в четвертом путешествии Искандера в « дальний Северный край из Восточного края »3. Восточную традицию (поиск мудрым правителем «благодатного» общества) Низами довел до совершенства в утопической структуре поэмы: прекрасная страна, сокрытая от посторонних глаз в « пределах безвестной земли », открывается Искендеру благодаря покровительству небес в его визионерской миссии и в результате длительного поиска правителем-мудрецом идеала общественного устройства и гармоничного сотрудничества людей.
Встреча Искендера с жителями «благодатного города» – это неспешный и детальный диалог о вопросах организации человеческого общества, о тех ценностях, которые скрепляют фундамент справедливой и счастливой общей жизни граждан страны.
В «Шах-наме», в других восточных поэмах диалог Искандара с брахманами источником имел роман Псевдо-Каллисфена об Александре1; в нем излагалась беседа царя с брахманами о совершенном обществе, где золото утратило всеобъемлющую власть. Брахманы ведут жизнь суровых аскетов в «пещерных кельях», проповедуют «счастье знанья» и стоицизм: «Мы волей и терпением сильны. / Мы счастьем знанья истинным полны. // Терпенье наше все превозмогает. / А знанье людям зла не причиняет»2. Диалог Искандара и брахманов проясняет цель их аскетического образа жизни – устремление к «благу вечному», преодоление человеческих желаний и пристрастий, относимых к «бренным» ценностям несовершенной земной действительности.
Низами сделал громадный шаг вперед, он создал социальную утопию, которая не дистанцировалась от земной действительности, а корректировала ее и воплощала чаяния народа-труженика.
В «Искендер-наме» идеальная страна, сокрытая от посторонних глаз, находится не на плодородном юге, а где-то на севере. Взору путешественников, преодолевших пустыню испытаний, открывается земля природной благодати. Однако жители прекрасного края лишены возможности мирного труда на своей земле: они покинули долину и спасаются от угрожающего им дикого народа Яджудж на отвесных скалах: «Но на самой вершине высокой горы / Под лазурью небес голубели шатры, // И взирающих ужас объял небывалый: / Опирались шатры на отвесные скалы»3. Упоминание о нечестивых народах Яджудж и Маджудж встречается в Коране, праведный Зу-л-карнайн воздвигает железный вал, оберегающий население от этой злой силы4. В поэме «Искендер-наме» народ Яджудж – образ-символ зла, вероятно, это обобщенный образ и социального зла: « Он породы людской, но исчадием тьмы »5. По просьбе жителей края Искендер построил, подобно кораническому персонажу, «железный, невиданный вал», ограждающий мирное население от смертельной участи.
Можно жить в царстве природной благодати, как утверждает Низами, и вместе с тем не иметь возможности пользоваться плодами природы и своего труда, так как зло имеет свойство проникать повсюду и аннигилировать то, что у человека считается счастьем и благополучием. От внешнего его проявления можно отгородиться какой-то «стеной», а как быть с его внутренними проявлениями? Может быть, существует какая-то другая модель жизни людского сообщества, более совершенная? Ею оказывается сокровенная страна, которая «приоткрылась» Искен-деру лишь после благого дела – постройки вала, охраняющего мирный народ от народа звероподобного, после длительных поисков.
Описание идеальной страны развертывается после повествования о бедах народа, спасающегося от зла. В такой логике расположения картин народной жизни содержится глубокий смысл; впрочем, напомним, что композиционная структура поэмы Низами в целом – это восхождение души (и опыта) главного героя поэмы (Искендера) от несовершенных проявлений действительности и человеческой натуры к идеальным формам бытия.
Утопическая страна Низами – «рай небесный», сведенный на землю: поэт счел необходимым подчеркнуть те традиции, на которые он опирался: «И увидел он город прекрасного края, / Изобильный, красивый, – подобие рая »6. И, как в раю (но в раю земном), граждане благословенной страны живут в довольстве, счастливые и свободные, они обладают крепким здоровьем, невероятным долголетием и умирают только в глубокой старости.
Природный макрокосм соразмерен «душе» и социуму – человеческому коллективу. Они представляют собой слитое воедино материально-духовное мировое существо, которое функционирует как бытие с законами открытости, со-любовности. Любовь скрепляет земное братство людей, соединяющий их принцип предполагает умение прощать слабости других и моральную требовательность по отношению к самому себе: «Не научены мы, о великий, злословью. / Мы прощаем людей, к ним приходим с любовью »7. Благо «светится» (внутренний свет непременно как-то проявится внешне, материально) и в природе, и в человеческом сообществе – как всеобщий миропорядок, который имеет возможность наблюдать Искендер: «И порядок , минуя и рощи, и пашни, / Встретил он, и покой , – здесь, как видно, всегдашний»8 (напомним, что состояние покоя – это и атрибут мусульманского рая).
Жители идеального города-государства так же, как и брахманы поэмы Фирдоуси, глубоко религиозны: «Наш хранитель – господь, нас воздвигший из тьмы, / Уповаем лишь только на господа мы»1. У Низами утопические идеи, как и у любого средневекового писателя, «заключены в религиозную оболочку»2, а поэтика произведения вбирает традиционную религиозно-символическую образность. Однако гуманистические идеалы поэта-мыслителя по существу оказываются шире религиозных трактовок мира и человека, они содержат в себе средневековые представления о благочестии человека и вместе с тем соответствуют идеалам восточного ренессанса, вбирают достижения общечеловеческой морали.
Низами ясно видит, что зло штурмует людское сообщество извне и изнутри. От внешнего зла можно отгородиться. Но как быть с алчностью, свойством общества и природы человека, возможно ли на земле ее преодоление в мыслях и поступках? Безусловна роль воспитания – проводника, выводящего человека из мира животного состояния, просветляющего его природу наряду с верой. Возможно самоограничение – аскетизм. Но спасение Низами видит не столько в аскетическом подвижничестве, тоже требующем каким-то образом отгородиться от несовершенств земного окружения, сколько в справедливом урегулировании общественных отношений, в соблюдении этических законов, выработанных человечеством для поддержания общественной гармонии.
Из бесед с жителями благословенной страны Искандер узнает, что в городе-государстве коллективное существование регулирует принцип справедливого распределения общественных благ, основой которого становится имущественное равенство граждан: «Помогая друзьям, всеблагому в угоду, / Мы свою, не скорбя, переносим невзгоду. // Если кто-то из нас в недостатке большом / Или в малом и если мы знаем о том, // Всем поделимся с ним . Мы считаем законом , / Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном . // Мы имуществом нашим друг другу равны . / Равномерно богатства всем нам вручены , // В этой жизни мы все одинаково значим , / И у нас не смеются над чьим-либо плачем»3. По Низами, царство справедливости на земле возможно при условии, что все члены общества равны во всех принадлежащих им правах, в том числе и экономических, а блага распределяются справедливо и создаются трудом всех без исключения граждан. Автор выдвинул в качестве доминирующего идеал человека-труженика: по его мнению, справедливой будет такая регуляция общественной жизни, когда блага будут принадлежать их создателям. Низами был склонен занимать «позицию требований народа» (Ализаде, 2021: 53).
У поэта отсутствует свойство, характерное для европейских возрожденческих – и последующих – утопических сочинений, авторы которых рационально, систематично и детально рисовали картину устройства совершенного общества, где каждый член общества – хорошо «смазанный» и правильно функционирующий «винтик» идеально действующей машины-государства. Утопической страной под пером Низами правит закон соразмерности, стремление человека к равновесию в мыслях, потребностях, поступках – правило «золотой середины». Если возможны черты аскетизма, то он должен быть умеренным. Надо уметь наслаждаться жизнью, но при этом исключается чрезмерность: «Угождения чреву не чтя никакого, / Мы не против напитков, не против жаркого. // Надо есть за столом, но не досыта есть. / Этот навык у всех в нашем городе есть»4.
В моральном аспекте отношения граждан города мира и счастья («незлобивого народа») построены на миролюбии: «Шлет господь нам все то, что всем нам на потребу. / А вражда, государь, нежелательна небу»5; «Из пришельцев, о царь, тот останется с нами, / Кто воздержан, кто полон лишь чистыми снами. / Если наш он отринет разумный закон , / То из нашей семьи будет выведен он»6. Очевидно, что «разумный закон» утопического мира поэмы опирается на общечеловеческие гуманистические ценности.
Утопист всегда реализует две взаимообусловленные цели – критическую и идеализирующую. Искавший справедливости, осуждавший пороки феодального общества Низами, по мнению Д. Мустафаева, «обращался к прошлому, противопоставив идеализированную греческую демократию своей современности»7. Отрицал ли Низами монархические формы правления? Безусловно, нет, поскольку главный герой его поэмы – властитель, обретающий мудрость. Справедливое правление возможно, как считал Низами (например, он воспел правление царицы Ну-шабе). Однако регуляция отношений в обществе несводима лишь к правлению, она должна охватывать и взаимодействия граждан, а это уже проблема социума и общественного идеала. У Фирдоуси им была община брахманов, Низами мог идеал извлекать из действительности – это городская трудовая община Гянджи (города, в котором поэт провел всю свою жизнь, лишь однажды отлучившись), на ее идеалы поэт мог реально опираться – в своем опыте, в наличном бытии.
Странствия героя поэмы «Искендер-наме», особенно во второй ее части («Икбал-наме»), – это путь познания накопленной человечеством мудрости. Кульминационной точкой путешествий Искендера становится его знакомство с мудростью «праведного стана» людей – «прекрасного», «благого» народа: «Увидав этот путь благодатный и правый , / В удивленье застыл Искендер величавый»1; «Для того лишь прошел я по целому свету, / Чтоб войти напоследок в долину вот эту!»2. Поднимаясь по лестнице мудрости, Искендер (познающий субъект поэмы) способен возвыситься над своей несовершенной природой: «О, звериный мой нрав! Был я в пламени весь. / Научусь ли тому, что увидел я здесь?!»3. Низами утверждает, что мудрость (наивысшая ценность), которую вбирает душа правителя, способна обеспечить справедливость его правления: «“Если б ведать я мог о народе прекрасном, / Не кружил бы по миру в стремленье напрасном. // Я приют свой нашел бы в расщелине гор, / Лишь к творцу устремлял бы я пламенный взор, // Сей страны мудрецов я проникся бы нравом, / Я бы мирно дышал в помышлении правом”4; «Умудренных людей встретив праведный стан, / Искендер позабыл свой пророческий сан. <…> И скакал Искендер через рощи и чащи / И несчастных людей отвращал от несчастий »5.
Можно утверждать, что в поэме Низами были созданы все необходимые условия для формирования полноценной книжно-утопической дискурсивной структуры.
Во-первых, в ней есть, как отмечено выше, образ путешественника. Искендер в поэме Низами – это тип познающего субъекта-визионера, в странствиях познающего разные модели общественного устройства и вбирающего их в свой опыт и практику.
Во-вторых, в утопическом дискурсе обязательно формируется своеобразное «идеальное пространство» – образ страны (края, места) с совершенным строем жизни. Следуя логике антите-тичности двух образов жизни (несовершенной земной и идеальной) утопист отграничивает идеальный топос от пространства дисгармоничного социума. О сокровенной стране знают, ведется ее постоянный поиск, но она, будучи сакральным пространством, приоткрывается странникам как бы «вдруг», случайно. В поэме Низами путешественник – Искендер, а прекрасная страна – пространство и метафора социального идеала – является тоже сокровенной: «Благодатной звезды стало явно пыланье. / Царь направился в путь, в нем горело желанье // Видеть город в пределах безвестной земли . / Все искали его, но его не нашли »6.
В-третьих, в литературном произведении утопический дискурс формируется благодаря риторическому канону. Функциональным элементом сюжетно-композиционной структуры утопического текста являются диалоги путешественника, визионера (Искендера) и жителей благодатной земли (благодатного города в «Искендер-наме»). В ходе бесед и проясняются, наряду с наблюдениями путешественника, законы жизни совершенного сообщества. Идеальный социум (утопический проект) – мир ценностей, его проектирование проистекает из априорного наличия в сознании утописта каких-либо высших ценностей, которые являются аксиологической инверсией несовершенной действительности. Само же утопическое описание представлено как разговор пытливого визионера и жителей утопической страны о принципах общественной гармонии.
Поэма «Искендер-наме» – завещание восточного поэта-мыслителя, в котором он выразил сокровенные чаяния многих поколений людей. Гуманистическое наследие великого поэта, его социально-этические воззрения оказали, если судить по громадному количеству откликов-аналогий («назира», «татаббу») на «Пятерицу» Низами, масштабное и благотворное влияние на творчество восточных поэтов и мыслителей.
Список литературы Утопический текст поэмы "Искендер-наме" Низами
- Ализаде А.У. Гуманистические идеи в творчестве Низами Гянджеви (на материале поэмы "Искендернаме") // Annali d'Italia. 2021. № 16-1. С. 52-54. EDN: UZVJBX
- Бертельс Е.Э. Низами // Низами Гянджеви. Пять поэм. М., 1968. С. 5-21.
- Гончаров С.А. Мифологическая образность литературной утопии // Литература и фольклор: вопросы поэтики. Волгоград, 1990. С. 39-48. EDN: UIZVWN
- Гулизаде М.Ю. Низами Ганджеви // История всемирной литературы: в 9 т. М., 1984. Т. 2. С. 328-336.
- Евсеев В.Н. Роман "Мы" Е.И. Замятина (жанровые аспекты). Ишим, 2000. 114 с. EDN: RSNXQR