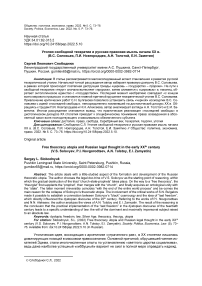Утопия свободной теократии и русская правовая мысль начала XX в. (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев, А.Н. Толстой, Е.И. Замятин)
Автор: Слободнюк Сергей Леонович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается малоисследованный аспект становления и развития русской теократической утопии. Начальной точкой рассуждения автор избирает правовую доктрину В.С. Соловьева, в рамках которой происходит поэтапная деструкция триады «церковь - государство - пророки». На пути к свободной теократии «теург» сначала вытесняет «пророка», затем сливается с «церковью» и, наконец, обретает онтологическое единство с «государством». Последний момент необратимо совпадает «с концом всего мирового процесса» и становится главной причиной крушения теократической утопии В.С. Соловьева. Привлечение критических работ С.Н. Булгакова позволило установить связь «черной» космоургии В.С. Соловьева с идеей «последней свободы», непосредственно повлиявшей на дистопический дискурс ХХ в. Обращаясь к трудам П.И. Новгородцева и Н.Н. Алексеева, автор анализирует взгляды А.Н. Толстого и Е.И. Замятина. Итогом рассуждения становится вывод, что практическая реализация «последней свободы» в дистопическом дискурсе ХХ столетия приводит к специфическому пониманию права: возведенная в абсолютный закон воля господствующего и максимально обезличенного субъекта.
Дистопия, право, свобода, серебряный век, теократия, теургия, утопия
Короткий адрес: https://sciup.org/149139884
IDR: 149139884 | УДК: 34.01:82-313.2
Текст научной статьи Утопия свободной теократии и русская правовая мысль начала XX в. (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев, А.Н. Толстой, Е.И. Замятин)
Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Pushkin, Russia, ,
Неудивительно, что начиная с 1950-х гг. утопия вытесняется на второй план научных штудий, уступая лидерство своему антагонисту. Правда, общий интерес к «месту, которого нет» до сих пор не иссякает: только в 2017–2022 гг. база РИНЦ пополнилась почти 700 публикациями, посвященными различным аспектам утопического. Однако историко-правовые аспекты утопии (по данным рубрикатора eLibrary) нашли отражение лишь в полусотне работ, теократический ракурс в основном освещается в социально-философском или политическом ключе (см., например: History, to be continued…, 2020; Leontyev, Kurashov, 2019; Leontyev, Leontieva, 2019), и только в 15 трудах понятие «теократическая утопия» вынесено в заглавие.
На наш взгляд, подобный дисбаланс не способствует объективному пониманию судьбы теократической идеи в русской правовой мысли первых десятилетий ХХ в. Кроме того, в подавляющем большинстве трудов подвергается редукции сложная природа исследуемого предмета, хотя отечественная правовая мысль на рубеже XIX–XX вв. представляла собой синтетический феномен, включающий как воззрения профессионалов, так и «наивные» доктрины, отражающие кризисные процессы в обыденном правосознании. И если в трудах П.И. Новгородцева, М.М. Ковалевского, Е.Н. Трубецкого четко просматривались элементы, повлиявшие на формирование будущего дистопического дискурса, то в сочинениях В.С. Соловьева, Н.С. Гумилева, не говоря уже о Е.И. Замятине и А.Н. Толстом, парадоксальным образом обозначались важнейшие государственно-правовые основания антиутопии.
Катастрофическое столкновение правового идеала и правовой реальности, о котором вслед за П.И. Новгородцевым (19911) будет писать Н.Н. Алексеев (1924), в правосознании Серебряного века проявлялось по-разному. Мессианско-эсхатологическое стремление к «утопии земного рая», достигшее в этот период пика, не предполагало свойственной «новейшему западному человечеству веры в универсальную, всеспасающую и всеисцеляющую общественную миссию права» и делало излишним обоснование связи между возможным «осуществлением общественного совершенства» и ясным пониманием того, «что такое общественный, политический и правовой идеал» (Алексеев, 1924: 275–276).
Ярким примером подобной редукции правового поля выступают утопические построения В.С. Соловьева. Непримиримый критик без -нравственного понимания права, он предпочитал оперировать моральными и богословскими категориями и напрямую связывал правовые основания своей утопии со справедливостью, которая «не есть простое равенство, а равенство в исполнении должного » (Соловьев, 1988, I: 526). Построения мыслителя восходят к моделям Т. Мора и Т. Кампанеллы, ведь, как известно, классическая утопия – это прежде всего воплощенная в жизнь справедливость. Все остальное вторично, в том числе право и законы: Т. Мор упоминает о них вскользь; Т. Кампанелла более многословен, но исключительно тогда, когда речь заходит о законе возмездия.
В доктрине В.С. Соловьева общие принципы утопистов сохранены, однако вопросы справедливости и права выносятся на «космический» уровень, ибо «нравственное значение общества» не зависит от человеческого рационального начала, «практически выражающегося в отношениях юридических и государственных» (1988, I: 588). Мыслитель подчеркивает, что «истинное, нормальное общество должно быть определено как свободная теократия», а последняя есть «основанный на любви и правде общественный строй, всеобъемлющий и всеединящий» (Соловьев, 1988, I: 589, 593). Кратчайшим путем к построению свободной теократии В.С. Соловьев считает теургию. Однако уже на уровне теоретизирования «вдруг» выясняется, что исполнение теургической миссии приводит к деструкции триады «церковь – государство – пророки», поскольку сначала «теург» занимает место «пророка», затем сливается с «церковью» и, наконец, обретает онтологическое единство с «государством». При этом приведение всех областей общественного устройства «к богочеловеческому согласному единству» и вхождение «в состав свободной теократии» произойдут не ранее, чем тварь «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы сынов Божиих» (Соловьев, 1994: 193), и, по сути, совпадет «с концом всего мирового процесса» (Соловьев, 1988, II: 398).
Именно осознание эсхатологической природы свободной теократии и стало главной причиной крушения утопии В.С. Соловьева. Безусловно, такая трактовка не совпадает с воззрениями, сторонники которых полагают, что «в виде теократической утопии Соловьев переживает» кратковременное «увлечение просветительским прогрессизмом Нового времени», после чего радостно возвращается «к традиционному христианскому вероучению с его эсхатологией и апока-липтикой» (Белик, 2018; Кондратьева, 2017). Однако обращение к трудам С.Н. Булгакова подтверждает, что наша позиция небезосновательна хотя бы потому, что идея «черной космоургии»
(«Свет невечерний») (Булгаков, 1999: 323) прямо указывает на соловьевский теургизм, без которого «софийная», она же «свободная», теократия просто невозможна. Как невозможна она без идеи « последней свободы», необходимо (по С.Н. Булгакову) связанной с диалектикой свободы тварной, ведущей к преодолению индивидуальности «ради высшей и последней свободы, с принятием софийной детерминации, как цели» (Булгаков, 1945: 156). Иными словами, в соловьевской доктрине « последняя свобода » и есть та самая свободная теократия , воплощение которой не предполагает ничего, кроме полного растворения всего в безличном абсолюте. Заметим, что неприятие деструктивных оснований соловьевства в итоге отвратило Н.С. Гумилева от концепции друидической утопии. В противном случае необъяснимо, почему «последняя, страшная свобода» (Гумилев, 1988: 267), якобы знаменующая обретение идеального царства, обернулась торжеством некой огненной сущности, «Утренней Звезды – Люцифера» и безоговорочным отречением от идеи кастовой гармонии.
Другой ракурс осмысления утопического теократизма представлен в концепциях, отраженных в «Аэлите» А.Н. Толстого и «Мы» Е.И. Замятина. Хотя замятинский текст считается первой дистопией, давшей жизнь целому направлению в культуре ХХ столетия, позволим себе заметить, что по крайней мере по времени публикации первопроходцем был А.Н. Толстой.
Дистопическая линия в «Аэлите» построена на критике идей О. Шпенглера, о чем свидетельствует и подзаголовок первого издания – «Закат Марса». Однако идея чистого цезаризма (атланты-Магацитлы) по воле автора обретает теократические черты. В итоге история Земли и Марса, куда атланты экспортируют цезаризм, оказывается историей крушения теократий. Интерпретируя шпенглеровскую доктрину мирового города, А.Н. Толстой отождествляет цивилизацию с теократией, установление которой ознаменовало закат Атлантиды и предрешило судьбу Марса. Справедливости ради заметим, что принадлежность главы Высшего совета инженеров (Тускуба) к высшему жречеству автором не акцентируется: для него достаточно простой констатации данного факта. В то же время А.Н. Толстой постоянно подчеркивает сакральную природу затеваемых Тускубом реформ, цель которых – вернуть государство в золотой век.
Не менее важно и то, что обретение утраченного Эдема у А.Н. Толстого неразрывно связано с полнейшим отрицанием самой идеи свободы: «Город готовит анархическую личность. Ее воля, ее пафос – разрушение. Думают, что анархия – свобода. Нет, анархия жаждет только анархии. <…> Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. <…> Мы бессильны остановить вымирание. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое и основное – мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все; теперь он разлагает цивилизацию» (Толстой, 1985: 347–348). Другими словами, цивилизация – это «безумие опустошенного разума» (Толстой, 1985: 342), чей свободный поиск и привел Атлантиду к «последней свободе», единственное спасение от которой – физическое уничтожение ее носителей.
Дистопический дискурс Е.И. Замятина имеет более сложную природу и обращается к интерпретациям вопроса о свободе в системе отношений человека и реализованной утопии, каковой, как ни парадоксально, является Единое Государство: «Почему танец – красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. <…> Инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни – только сознательно...» (Замятин, 1989: 309). Хрестоматийный тезис о познанной (осознанной) необходимости здесь налицо. Как налицо и вывод о том, что в Едином Государстве таковой необходимостью является не-свобода, якобы органически связанная с естественным правом. Поэтому первосвященник и живой бог Единого Государства (Благодетель) видит свою главную задачу в полном искоренении (через ампутацию фантазии-души) не-естественной свободы, мешающей возвращению в Эдем (Замятин, 1989: 450). В сущности, мир благоденствующих «нумеров» становится образцом новой теократии, провозглашающей торжество мнимо-естественного права, в фундаменте которого идея несвободы и сакрализованное право гражданина «понести кару» (Замятин, 1989: 383). Эта новая теократия тем не менее полностью подтверждает справедливость тезиса П.И. Новгородцева: чтобы государство «стало теократическим, требуется… полное подчинение гражданских отношений религиозным целям» (1899: 305).
Дальнейшее развитие дистопического дискурса, в рамках которого были созданы теократии ангсоца (Д. Оруэлл), Дюны-Арракиса (Ф. Херберт), боговластного человечества (Л.М. Леонов), показало, что как только утопия земного рая, перестав быть «абсолютным идеалом» и «безусловной целью прогресса», выходит на уровень «практической действительности», что, по справедливому мнению П.И. Новгородцева, крайне нежелательно (1991: 56), «последняя свобода» в лучшем случае порождает изощренную практику борьбы с мыслепреступлением (Д. Оруэлл), в худшем – превращает талион в единственный основополагающий принцип антиутопического права (Д. Оруэлл, Ф. Херберт, Л.М. Леонов), являющего собой возведенную в абсолютный закон волю господствующего и максимально обезличенного субъекта.
Список литературы Утопия свободной теократии и русская правовая мысль начала XX в. (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев, А.Н. Толстой, Е.И. Замятин)
- Алексеев Н.Н. Основы философии права. Прага, 1924. 283 с.
- Белик К.С. Теократическая утопия и ее крах в философии В.С. Соловьева // ABYSS (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии). 2018. № 4 (6). С. 20-25.
- Булгаков С.Н. Свет невечерний // Первообраз и образ: сочинения: в 2 т. М., 1999. Т. 1. 416 с.
- Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. 632 с.
- Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 13-522.
- Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. М., 1988.
- Толстой А.Н. Аэлита // Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита. М., 1985. С. 259-391.
- Leontyev G.D., Leontieva L.S. Dualism of Utopia: anti-systemic protest and social // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. Т. 9, № 1. С. 5172-5175. DOI: 10.35940/ijitee.A9224.119119