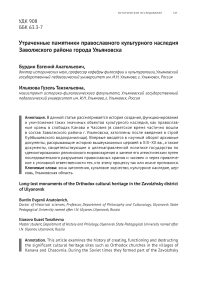Утраченные памятники православного культурного наследия Заволжского района города Ульяновска
Автор: Бурдин Евгений Анатольевич, Ильязова Гузель Танзильевна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Исторические исследования
Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается история создания, функционирования и уничтожения таких значимых объектов культурного наследия, как православные храмы в слободах Канава и Часовня (в советское время частично вошли в состав Заволжского района г. Ульяновска, затоплены после введения в строй Куйбышевского водохранилища). Впервые вводятся в научный оборот архивные документы, раскрывающие историю вышеуказанных церквей в XIX-XX вв., а также документы, свидетельствующие о целенаправленной политике государства по «демонтированию» религиозного мировоззрения и замене его атеистическим путем последовательного разрушения православных храмов и часовен и через привлечение к уголовной ответственности тех, кто этому процессу так или иначе противился.
Зона затопления, культовое зодчество, культурное наследие, церковь, ульяновская область
Короткий адрес: https://sciup.org/14219755
IDR: 14219755 | УДК: 908
Текст научной статьи Утраченные памятники православного культурного наследия Заволжского района города Ульяновска
В 2014 – 2015 гг. в нашем регионе под руководством одного из авторов статьи реализовывался научно-исследовательский и просветительский проект «Культурное наследие зон затопления Куйбышевской и Саратовской ГЭС на территории Ульяновской области», главной целью которого являлось комплексное изучение истории памятников культурного наследия, особенно религиозных, в контексте историко-культурного процесса, а также государственной политики по отношению к ним на примере Ульяновской области.
Актуальность данного проекта очевидна. Повышенный интерес к православному архитектурному наследию объясняется тем, что оно является материальным воплощением исторической памяти значительной части российской нации, создающим и сохраняющим среду его обитания, соединяющим природную и антропогенную среду. Именно памятники культового зодчества несут информационную и символическую нагрузку, отражающую мировоззрение эпохи и систему приоритетных ценностей. Весьма актуально изучение подобных объектов для провинции, где слаба историческая традиция в познании культурного наследия, связанного с религиозной жизнью. В Ульяновской области детальные исследования по рассматриваемой тематике до сих не проводились.
Между тем полученные в результате работы по заявленной теме научные данные не только способствуют формированию и утверждению региональной идентичности, но и позволяют осуществлять просветительскую деятельность среди школьников и студентов (открытые лекции в учебных заведениях и предоставление полученных материалов для выставок в музеях города и области), а также среди других категорий населения региона (интервью на радио и телевидении, размещение информации о проекте в интернет-порталах и газетах). Кроме того, вышеуказанные материалы уже сейчас активно внедряются в образовательный процесс Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, в частности, при преподавании дисциплин «Объекты культурного и природного наследия в России и за рубежом» и «Объекты культурно-исторического наследия Ульяновской области». Необходимо отметить, что промежуточные итоги проекта прошли апробацию как в России, так и за рубежом [Burdin 2016], [Бурдин 2015].
В рамках данной статьи мы публикуем результаты исследований православных храмов, находившихся в левобережной части города Ульяновска (до 1924 г. – Симбирска). В первую очередь обратимся к истории местности, где они были построены. Заволжские слободы Часовня, Канава и Королевка основали предположительно во второй половине XVIII в. Судя по статусу селений (слободы), их первыми жителями были свободные русские люди, которые занимались ремеслом, торговлей и земледелием [Мартынов 1998: 110].
В 1952 – 1955 гг. жители Часовни и Канавы переселились из затопляемой части на защищенную территорию, в новый микрорайон Ульяновска – Нижнюю Террасу, который благодаря комплексу гидротехнических сооружений (в т. ч. дамбе) стал единственным в России городским районом, расположенным ниже уровня близлежащего водохранилища (Куйбышевского).
Документы, найденные в Государственном архиве Ульяновской области (ГАУО), однозначно свидетельствуют о том, что на территории заволжских слобод было два храма – Казанско-Богородицкий, или Казанский в Канаве и Никольский в Часовне. Подавляющая часть источников посвящена Казанско-Богородицкой церкви, о которой в основном мы и будем рассказывать. В некоторых документах 1930 г. говорится и о церкви в Королевке, но, скорее всего, здесь просто перепутали храмы в Канаве и Королевке (информации о наличии третьего культового объекта больше нигде нет).
Краткая история Никольского храма такова. Официальным мотивом его сооружения была благодарность за сохранение жизни наследника престола Николая II после покушения на него во время путешествия по Японии в 1891 г. Хотя понятно, что это повод. Главной причиной была острая потребность жителей Часовни (самой густонаселенной слободы) в культовом здании. Заметим, что место для него определили еще в 1814 г., но средств до поры до времени не хватало. И вот в 1892 г. на деньги купца В.В. Крайнова и других благотворителей, а также прихожан, началось строительство Никольской церкви, завершившееся в 1909 г. Она была однопрестольной и представляла собой одноэтажное здание из красного кирпича с деревянной колокольней площадью около 460 кв. м. Документальная информация о существовании храма в советский период фрагментарна. Сохранились сведения о том, что с 7 по 9 января 1933 г. при участии священнослужителей церкви по домам совершался крестный ход. Храм закрыли и затем взорвали примерно в 1937 г., а сами руины в 1956 – 1957 гг. затопило Куйбышевское водохранилище [Ильин 2001: 61-62].
Главная и старейшая в рассматриваемом районе церковь была возведена в 1850 г. (окончательно достроена в 1854) на территории Канавы на средства прихожан, сторонних меценатов и стараниями священника Дмитрия Михайловского, а освящена в июле 1856 г. (сведения 1866 г.) [ГАУО. Ф. 134. Оп. 2. Д. 44: 123]. Каменное здание имело три престола – во имя Казанской Божией Матери, во имя Святителя и Чудотворца Николая и во имя Святителя и Великомученика Дмитрия Мироточца (правда, позже остался один престол, как и первоначально). Интересно, что до 1849 г. слобода Канава относилась к приходу Смоленской церкви, находившейся на правом берегу, в Подгорье [Ильин 2001: 56]. Служители в новый храм были переведены из Преображенского, что располагался на территории Подгорья, но был упразднен в 1852 г. Также из него доставили иконостас и утварь. В 1860 г. на пожертвования был куплен колокол весом в 80 пудов (1,3 т). В 1861 г. на средства, изысканные священником, при храме построили училище [ГАУО. Ф. 134. Оп. 2. Д. 44: 127 об.].
Первым священником новой церкви стал 46-летний Дмитрий Саввович Михайловский [ГАУО. Ф. 134. Оп. 2. Д. 44: 126]. За неутомимые труды и заботы по ее строительству при освящении на него возложили набедренник, а через два года за усердную и полезную службу он получил благословение Святейшего Синода. Кроме того, Михайловский получил от епархиального начальства множество благодарностей. В 1860 г. на пожертвования был куплен колокол весом в 80 пудов (1,3 т). В 1861 г. на средства, изысканные священником, при храме построили училище. Диаконом был Василий Александрович Петров, дьячками – Александр Ефимович Фавстрицкий и Павел Благоразумов [ГАУО. Ф. 134. Оп. 2. Д. 44: 127 об.]
В 1889 г. новый священник Алексей Благовидный и диакон Василий Петров просили городские органы власти закрепить отведенную для постройки домов усадебную землю законным актом на владение последней, чтобы ее не выкупили частные лица [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 362: 1]. К этому времени священник Михайловский уже умер, а его семья проживала в доме на участке для батюшки. По плану за храмом числился участок земли в 518 кв. сажень (0,24 га) [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 362: 3].
В ГАУО хранится любопытное дело 1899 г. – «О продаже старостою слободы Канавы жемчуга и камней с иконы Скорбящей Божией Матери». В августе этого года епископу Симбирскому и Сызранскому Никанору поступило прошение от прихожан Казанской церкви следующего содержания:
«При нашем храме с иконы Скорбящей Божией Матери хранилась в кладовой с давнего времени риза. Ныне оказалось, что этой ризы нет, а священник о. Троицкий сказал, что церковный староста Балахонцев продал эту ризу. Исчезновение такой драгоценной памяти древности, ничем не заменимой, глубоко опечалило всех прихожан, из которых никто бы не дал согласия на продажу этой святыни. Поэтому мы вынуждены просить Ваше Преосвященство, приказать расследовать, куда утрачена риза. При этом заявляем, что старосту Балахонцева не будем иметь на этой должности, а добровольно изберем другого старосту» (орфография и пунктуация сохранены – Е.А.Б., Г.Т. И.) [ГАУО. Ф. 134. Оп. 5. Д. 294: 1].
Рассмотрение прошения в Симбирской духовной консистории длилось до октября. В итоге было установлено, что Михаил Балахонцев действительно продал жемчуг с ветхой ризы иконы, которая в церковной описи не значилась и хранилась в кладовой, а информацию о вырученных деньгах (135 рублей) занес в специальную книгу. Поэтому неблагонамеренности в его действиях не нашли и оставили в той же должности, но внушили старосте и священнику, чтобы в будущем они не допускали продажи принадлежащих храму вещей [ГАУО. Ф. 134. Оп. 5. Д. 294: 15-16].
Весной 1915 г. представитель Канавского судосберегательного общества Михаил Дьяков разместил большой склад дерева на прилегающей к храму площади. Церковный причт и староста обратились в духовную консисторию с просьбой убрать склад, который, по их мнению, находится на близком расстоянии от храма, что незаконно и опасно. Кроме того, торговля лесом обычно сопровождавшаяся криками и бранью, могла помешать богослужениям и отвлекать внимание верующих [ГАУО. Оп. 8. Д. 1036: 2]. Просьбу удовлетворили, а полицейскому управлению было поручено следить за соблюдением распоряжения о недопущении торговли на указанном месте.
Если в 1904 г. в приход Казанской церкви входили все заволжские слободы и деревня Петровка, то в 1916 г. в нем остались только Канава и Королевка [Ильин 2001: 57]. Это объясняется тем, что в 1909 г. в Часовне стала действовать Никольская церковь, в приход которой входила и Петровка.
В 1920-е гг. Казанский храм описывался как одноэтажное кирпичное оштукатуренное здание объемом 1284 куб. м с двухъярусной колокольней [ГАУО. Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 122: 21]. В списке служителей культа г. Ульяновска и Заволжских слобод от 08.11.1926 г., лишенных избирательных прав, числились священник Арсений Иванович Иванов и диакон Сергий Петрович Вознесенский из Казанского храма, а также протоиереи Петр Александрович Сергиевский и Сергий Алексеевич Добролюбский, диакон Дмитрий Александрович Немков и диакон-псаломщик Леонид Иванович Иванов из Никольского [ГАУО. Ф. Р-634. Оп. 5. Д. 375: 6 – об.-7].
В 1930 г. развернулась кампания по закрытию Казанской церкви. Как видно из источников, политика местных властей, с одной стороны, вызвала поддержку рабочих патронного завода, советской интеллигенции, служащих, низовых парторганизаций и др., а с другой стороны, встретила ожесточенное сопротивление верующих. Наибольший интерес представляет подробный доклад ответственного инструктора окружного исполнительного комитета П.С. Мунцурова президиуму Ульяновского окрисполкома (ОКРИКа) от 6 июля 1930 г. по делу о закрытии церкви в слободе Канава и о выполнении поручения президиума ОКРИКа о проведении разъяснения верующим в связи с подачей последними жалобы во ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) на неправильные действия местных органов. Документ заслуживает того, чтобы привести его значительную часть:
«Постановление Крайисполкома от 18.05.1930 г. за № 91… церковь находящаяся на территории расположения завода постановлено закрыть и здание передать для культурно просветительных целей.
На постановлении Крайисполкома, а также предыдущих постановлений как указано выше, группой верующих граждан слобод Канавы и Королевки подана во ВЦИК жалоба, в которой они указывают, что церковь закрыта была в административном порядке помимо желания верующих, а также на том основании с нее сняты колокола, о том, что их ходатайство, возбужденное перед Ульяновским Окрисполкомом, ОКРИК оставил без удовлетворения, на основании чего и просит ВЦИК дать распоряжение ОКРИКу о немедленном открытии церкви.
Согласно распоряжению секретариата ПредВЦИКа Ульяновским Окрисполкомом от 02.06.1930 г. … по поручению члена президиума ВЦИК тов. Смидовича, жалобу эту предложено рассмотреть – с одновременным извещением о результате решения во ВЦИК, а до решения во ВЦИКе церковь передать в пользование верующих, а лиц нарушивших закон привлечь к ответственности.
Рабочие госзавода №3 со всеми цехами и обслуживающими его организациями, 2) служащие больницы, 3) парторганизация горрайкома слобод Канава, Королевка, 4) учителя, обслуживающие школы, персонал и учащиеся слобод Канава и Королевка в количестве до 150 человек, 5) батраки, бедняки и единоличники слободы Канавы в числе 47 чел. и Королевки 100 человек, 6) союз железнодорожников, 7) члены союза Совторгслужащих: все вышеперечисленные организации и группы сельхозобъединений, узнав о сборе подписей группы верующих из слобод Канавы и Королевки… категорически протестуют против лживости утверждения, что церковь закрыта административным путем, а также настоятельно требуют от Райгорсовета и Окрисполкома об оставлении здания бывшей церкви под клуб…
Выездом на место из Ульяновска с председателем Заволжского Райгорсовета тов. Абутовым установлено следующее: сего 3-го июля подъезжая к зданию Горсовета в 3.1/2 часа дня, нас встретила толпа женщин в количестве приблизительно около 80 человек, в том числе мужчин было не более как человек 10, все потребовали результата решения ОКРИКом вопроса о передаче в их пользование закрытой церкви, для ознакомления и разъяснения верующим по этому вопросу им предложено было войти в здание Райгорсовета, причем мной детально было указано на все те ходатайства и протоколы на основе которых было начато дело, а также и на неправдоподобность их заявления поданного во ВЦИК о том, что церковь закрыта административно без ведома верующих, а с полного согласия подавляющего большинства (за 2048 человек, против 186 – Е.Б.) верующих и что у них в слободе Канаве имеется другая церковь для удовлетворения религиозных потребностей.
Разъяснительная работа продолжалась около 3 ½ часов, причем в течение 2-х часов собравшиеся держали себя сдержанно за исключением некоторых выкриков со стороны… женщин заявляющих о том, что не было того количества собравшихся, которое указано в протоколе вынесенном общим собранием об отказе от церкви.
Абсолютное спокойствие продолжалось до тех пор пока не выступила пришедшая «делегация», которая 3 июля с.г. находилась в Ульяновске присутствующая при разрешении вопроса на комиссии при Окрисполкоме по вопросу о предоставлении церкви верующим слободы Королевки. Сообщившая собравшимся о том, что комиссией в их ходатайстве отказано, получился неимоверный ЧЕРТОПОЛОХ продолжавшийся около 1 ½ часа, конечно в этот период времени контингент присутствующих пополнился приблизительно до 100 человек… которые стоя в отдаленных углах зала сзади на ускивали женщин быть требовательнее, следствием чего получилось проявление религиозного фанатизма, «НА КУЛАЦКОЙ ПОДКЛАДКЕ», можно было слышать вой десятка старух обращающихся к присутствующим, чтоб последние крепче действовали не останавливаясь не перед чем (голосили насколько хватит их сил)… настаивающих, что как рабочие а также и колхозники от церкви не отказывались… говоря будем настаивать до тех пор пока не передадут… наивность последних проявляется начиная с 29.06.1930 г. ежедневно, чем приостановлена работа Райгорсовета. Конечно как и следовало ожидать часть женщин под шумок пускали возгласы антисоветского порядка против мероприятий проводимых Соввластью, по части хлеба и недостаточном снабжении крестьян. Сопоставляя Пятидневку рабочих, которым нужен «КЛУБ» и семидневку крестьян, которым нужна «ЦЕРКОВЬ»… вплоть до нежелания Совласти.
В этот момент остановить их было почти невозможно, следует отметить характерный случай, одна гражданка попросила слова с состоящего стола на котором она находилась, на минуту публика успокоилась, но когда узнали, что она просит собравшихся тишину и прочее, ее тут же сняли, где пришлось попросить вмешательства милиции, были также попытки возбудить толпу произвести открытие церкви самочинно, или же всей карпарацией двинуться в Ульяновский ОКРИК.
…По заявлению секретаря Райкома тов. Макеева число подписей об отказе от церкви только по однем слободам Канавы и Королевки достигает до 500 человек.
В результате следует отметить, что парторганизация Заволжского района проделала громадную общественно-политическую работу как недостаток она не доведена до конца с рабочими массами, в особенности среди рабочих происходящих из названных слобод, замечено двуручничество в этом вопросе, некоторые официально – формально против религии и церкви, но на деле возбуждают женскую массу в первую очередь своих жен, которые… назойливо требовали открытие церкви в течение последних пяти дней, своими действиями играющими на руку кулацкой части, также влияли на отсталые в культурном отношении кучку женщин единоличниц и частью на колхозниц…» (орфография и пунктуация сохранены – Е.А. Б., Г.Т. И.) [ГАУО. Ф. Р-1624. Оп. 1. Д. 334: 214-215].
В этом документе, как и в еще одном, в нескольких местах говорится о закрытии храма в Королевке. Судя по всему, это просто ошибка их составителей, так как, во-первых, по дореволюционным источникам в Заволжье действовало только две церкви, во-вторых, во всех остальных документах упоминаются только Никольский храм в Часовне и Казанский в Канаве (в 3-4 км от первого). Массовые волнения верующих заволжцев 3 июля, довольно-таки подробно описанные чиновником (что само по себе является неординарным событием), свидетельствуют об остроте и масштабности ситуации, фактически вышедшей из-под контроля властей. Их неумение решать злободневные вопросы нередко приводило к подобным конфликтам, которые, как правило, решались административным путем. В мае 1930 г. Казанскую церковь закрыли (правда, есть документы за февраль, март и апрель с решениями о ее закрытии, но, видимо, сама их повторяемость говорит о том, что их не выполнили).
Очевидно, что властные структуры готовились к закрытию церкви заранее. Ликвидации храма предшествовала длительная переписка между Средне-Волжским краевым административным управлением, Волжским районным городским советом, президиумом окружного исполкома, в которой обсуждалась возможность закрытия церкви [ГАУО. Ф. Р-1050. Оп. 2. Д. 14: 129-135]. Кроме того, по указанию сверху в январе – июне 1930 г. формировалось общественное мнение. В архиве сохранилось много писем (протестов) от рабочих, крестьян, комсомольцев, учащихся и других о том, что они, услышав о сборе верующими слобод Канавы и Королевки подписей с просьбой об открытии церкви, закрытой на основе желания подавляющего большинства рабочих и бедняцко-середняцких масс, категорически протестуют против лживого утверждения и требуют ее передачи под клуб. Этому же были посвящены многочисленные протоколы общих собраний местных жителей, в том числе рабочих [ГАУО. Ф. Р-1624. Оп. 1. Д. 334: 220-264]. Тем не менее, как видно из доклада П.С. Мунцурова, немало слободчан выступало против антирелигиозной политики.
Последний раз в доступных архивных документах о Казанской церкви упоминалось в ноябре 1930 г. на заседании президиума Заволжского горсовета:
«Слушали: Использование Канавской церкви под культурное учреждение. Постановили: … В слоб. Н. Часовня самими крестьянами с Часовенской церкви сняты колокола. В слоб. Канаве точно также самими крестьянами сняты колокола и закрыта церковь, ключи от каковой переданы в Совет, каковую использовать под клуб» (орфография и пунктуация сохранена – Е.А. Б., Г.Т. И.) [ГАУО. Ф. Р-1050. Оп. 2. Д. 14: 136].
После закрытия Казанский храм превратили в межрайонный клуб «Аврора», позже к нему добавили кинотеатр и переименовали в «Ударник» (неофициальное название – «Фергано») [Ильин 2001: 57]. Перед созданием Куйбышевского водохранилища здание бывшей церкви разрушили, а это место затем ушло под воду.
В 1930-е гг. НКВД возбудило два дела в отношении верующих и служителей церкви Часовни: 1) № П-4403 «По обвинению церковного сторожа церкви с. Новая Часовня Ульяновского района Самаркина Ивана Гордеевича в антисоветской агитации» (начато 8 августа и закончено 11 августа 1937 г.); 2) № 4830 «О контрреволюционной группе церковников в слободе Нижняя Часовня Ульяновского района» (начато 27 октября и закончено 12 ноября 1937 г.) [Скала 2007: 681-682, 716-718]. И.Г. Самаркин был расстрелян 27 августа 1937 г., реабилитирован в 1989 г. Ульяновской областной прокуратурой. По второму делу к расстрелу приговорили иеромонаха Александра (Александра Дмитриевича Карназеева), мирянина («церковника») Константина Герасимовича Тимофеева, к 10 годам концлагеря – священника Никанора Акимовича Трушина, членов церковного совета Алексея Егоровича Сурова и Леонтия Ивановича Грибанова, к 8 годам лагеря певчую церковного хора Антонину Ивановну Федорову и «активного церковника» Федора Николаевича Федорова. Все они были реабилитированы Ульяновской облпрокуратурой в 1989 г.
В числе строений, подлежащих сносу в 1955 г. на территории Володарского района (на месте бывшей слободы Часовни), находилась и часовня [ГАУО. Ф. Р-3037. Оп. 2. Д. 87: 237]. Она была сложена из прочного красного кирпича, и поэтому ее взорвали. Хотя еще в мае 1953 г. Володарский райисполком сообщал уполномоченному Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР по Ульяновской области, что на территории района в наличии никаких церковных зданий нет [ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 28: 8]. Власти явно поторопились отчитаться.
Показательно, что до 2008 г. на территории Нижней Террасы – микрорайона современного Заволжского района г. Ульяновск (фактически правопреемника бывших заволжских слобод Симбирска), не было православного храма. И только в 2008 г. началось сооружение небольшой деревянной церкви Пантелеймона Целителя, закончившееся в 2012 г.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что храмы в Симбирском Заволжье были возведены значительно позднее по сравнению с первыми городскими церквями, действовавшими с середины и конца XVII в. Казанскую церковь на территории заволжских слобод Симбирска возвели в 1850 г., а Никольскую в 1909 г. Обе они были каменными. Безусловно, данные храмы являлись архитектурными доминантами указанной территории и духовными центрами для православных прихожан. Их судьба во многом повторила судьбу сотен других культовых объектов региона. Но имелась и специфика, которая заключалась в упорстве местных прихожан в отстаивании свободы вероисповедания и богослужений, особенно проявившемся в 1930-е гг., во время наиболее активной антицерковной пропаганды. Однако в конечном итоге храмы были закрыты и разрушены (Казанский храм закрыт в 1930 г. и разрушен в первой половине 1950-х гг., Никольский храм разрушен примерно в 1937 г.)
Список литературы Утраченные памятники православного культурного наследия Заволжского района города Ульяновска
- Burdin E. The Great Volga: the impact on economy, culture and ecology of Ulyanovsk region//Evolution and Sustainable Development of Great River Civilization: 2016 Great River Forum. Wuhan: Changjiang press, 225 p. P. 64-67.
- Бурдин Е.А. Итоги первого этапа реализации проекта «Культурное наследие зон затопления Куйбышевской и Саратовской ГЭС на территории Ульяновской области»//Государство, общество, церковь в истории России XX -XXI веков: мат-лы XIV междунар. науч. конф. В 2 ч. Ч. 2. Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 2015. С. 33-38.
- Бурдин Е.А., Рыбакова А.В. Исторический обзор церковной летописи села Тургенево//Всеобщая история. 2015. № 2. С. 3-10.
- Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск: типо-литогр. А.Т. Токарева, 1898. 456 с.
- Ильин В.Н. Краеведческий справочник-путеводитель Симбирска-Ульяновска. Вып. 1. Ульяновск: Симбирская книга, 2001. 169 с.
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 134. Оп. 2. Д. 44.
- ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 362.
- ГАУО. Ф. 134. Оп. 5. Д. 294.
- ГАУО. Оп. 8. Д. 1036.
- ГАУО. Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 122.
- ГАУО. Ф. Р-634. Оп. 5. Д. 375.
- ГАУО. Ф. Р-1624. Оп. 1. Д. 334.
- ГАУО. Ф. Р-1050. Оп. 2. Д. 14.
- Скала А. Церковь в узах: история Симбирской-Ульяновской епархии в советский период (1917-1991 годы). Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2007. 968 с.
- ГАУО. Ф. Р-3037. Оп. 2. Д. 87.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 28.