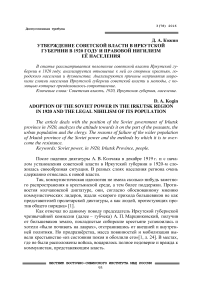Утверждение советской власти в Иркутской губернии в 1920 году и правовой нигилизм её населения
Автор: Кожин Д.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна
Статья в выпуске: 3 (78), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается положение советской власти Иркутской губернии в 1920 году, анализируется отношение к ней со стороны крестьян, городского населения и духовенства. Анализируются причины непринятия широкими слоями населения Иркутской губернии советской власти и методы, с помощью которых преодолевалось сопротивление.
Советская власть, иркутская губерния, население
Короткий адрес: https://sciup.org/14335783
IDR: 14335783
Текст научной статьи Утверждение советской власти в Иркутской губернии в 1920 году и правовой нигилизм её населения
После падения диктатуры А. В. Колчака в декабре 1919 г. и с началом установления советской власти в Иркутской губернии в 1920-м сложилась своеобразная ситуация. В разных слоях населения региона очень сдержанно отнеслись к новой власти.
Так, коммунистическая идеология не имела сколько-нибудь заметного распространения в крестьянской среде, а тем более поддержки. Противостоя колчаковской диктатуре, они, согласно обоснованному мнению коммунистических лидеров, ждали «скорого прихода большевиков не как представителей пролетарской диктатуры, а как людей, протестующих против общего порядка» [1].
Как отмечал по данному поводу председатель Иркутской губернской чрезвычайной комиссии (далее – губчека) А. П. Марцинковский, получив от большевиков землю, покладистые сибирские крестьяне успокоились и хотели «было почивать на лаврах», отстранившись от внешней и внутренней политики. Но продразвёрстка, масса повинностей и мобилизация вывели крестьянство «из состояния покоя и обозлили его»[1, л. 24]. В местах, где не были расположены войска, воцарилось полное недоверие и вражда к коммунистам, представляющим власть.
«Крестьянская среда», по оценке чекистских аналитиков, испытывала «недоверчивое отношение к представителям рабочей партии. И «Коммуния», которую несут большевики, самое страшное для деревни из коммунистической про-граммы»[1, л. 24]. В этой связи в крестьянской среде по всему региону участились вооружённые восстания. Боевое задание партии большевиков по продразвёрстке и мобилизации не выполнялось. Сибирь, являясь не только продовольственной и сырьевой базой для советской России, но и «резервуаром живой силы для Красной Армии», в 1920 г. выступила против безвозмездного изъятия продуктов и сырья, несправедливой мобилизации. В Восточной Сибири, особенно в Иркутской губернии, по масштабам и численности восставших выступления значительно превзошли размах партизанского движения против власти Колчака. Если в течение 1919 г. против власти белых партизанские отряды действовали главным образом в западных районах Нижнеудинского уезда, то осенью 1920 г. восстания охватили всю территорию Иркутской губернии.
Понимая, что крестьянство, объединившись в армии, как при Колчаке, сможет свергнуть ставшей ему ненавистную власть коммунистов, председатель Сибирского революционного комитета (далее – ревком) И. Н. Смирнов приказал: «Для предотвращения этого всем губернским ревкомам и исполкомам немедленно назначить полномочную тройку в составе председателя губека и губвоенкома, с её председателем – председателем губревко-ма или губисполкома» [2]. Такие же тройки должны были создаваться и в уездах.
При восстаниях в уездах вся полнота власти переходила тройке. При этом командование вооружёнными силами, которые привлекались для подавления восстания, предоставлялось военному комиссару. Тройка должна была объединять и согласовывать действия всех советских органов. За «неподавленное восстание» тройка несла персональную ответственность «по строгости закона, за недостаточно энергичную защиту Советской Власти» [2].
Городское население губернии так же, как и крестьяне не испытывало большой симпатии к новой советской власти с их идеологией в отношении частной собственности. Городской обыватель связывал своё развитие с укреплением товарно-денежных отношений. Неудивительно поэтому, что представители советской власти с неприязнью отмечали: «После переворота Иркутск в силу своей спекулятивной психологии и массе осевших всевозможного типа дельцов, продолжал ту вакханалию сделок, которую можно было наблюдать при Колчаке»[2, л. 3 об.].
По мнению большевистского руководства, Иркутская губерния становилась «центром спекулятивной жизни Сибири» [2, л. 3 об.], причем, «спекуляция захватила все слои населения»[2, л. 3 об.]. «Приходится сталкиваться с тем, – писали в своих отчётах иркутские чекисты, – что сами представители Советской власти мешают борьбе со спекуляцией» [2, л. 3 об.]. Более того, они (чекисты) полагали, что именно в советских учреждениях находились «все её корни» [2, л. 3 об.].
«Так, например, – узнаём мы из Отчёта ЧК за 1920 г., – крупный местный спекулянт Абаджи, греческий консул, возглавляющий громадную панаму, которая имеет корни в Шанхае, продал на большие деньги несколько вагонов медикаментов, которые могли быть у него просто реквизированы, представителю Сибздрава Раппопорту и получил от него удостоверение на скупку медикаментов от иностранных подданных на любую сумму» [2, л. 3 об.].
Советские служащие проявляли «явный антагонизм к Советской власти». В связи с этим в «Докладе Губчека… за 1920 г.» сообщалось: «Редакция местной газеты часто получает анонимные письма такого содержания: «Скоро ли чёрт унесёт Вас, грабителей» [2, л. 3 об.].
В связи с отделением церкви от государства и секуляризацией церковного имущества не приняло новую власть и духовенство, а оно, по мнению современников, играло
«выдающуюся роль… в политической жизни… благодаря своей исключительной активности», которая нередко выражалась в антисоветской агитации. Наибольшей «реакционностью» отличались беженцы и священнослужители из Уфимской губернии и приходов, прилегающих к Ижевскому заводу, а также беженец из Казани протоиерей Николай Троицкий, которого, несмотря на облаву, проведённую в Знаменском женском монастыре, захватить не удалось.
На их «погромных» проповедях велась критика существующего социального государственного строя. Говорилось о «жидовском за-силии комиссаров» [3]. О том, что отделение церкви от государства это «сатанинские измышления большевизма» [3], а символ красноармейской звезды «разъяснялся суеверной темноте, как печать Антихриста» [3].
По мнению председателя Иркутской губернской чрезвычайной комиссии С. Г. Чудновского, «клерикальной цитаделью Иркутской епархии»[3, с. 402.] являлся Вознесенский мужской монастырь, настоятелем которого был епископ Зоси-ма. За монастырём было установлено негласное наблюдение. 22 марта 1920 г. монастырь оцепили и проверили всех живущих в нём. При тщательном обыске в подвале было обнаружено 15 пудов церковной утвари и «некоторое количество ценностей» [3. С. 403], которые были изъ- яты и переданы на хранение в Народный банк.
В этот же день ЧК были арестованы временный управляющий епархией епископ Зосима, организатор дружин Святого Креста священник Концевич и священник Климюк. Арестованные были допрошены и 8 апреля отпущены под поручительство. 13 апреля ЧК арестовала протоиерея Верномудрова. 16 мая Зосима отказался от звания епископа и сложил с себя монашеский сан. 29 мая Зосиму ЧК увезла в Омск, в представительство ВЧК по Сибири. А 14 июня его обратно перевели в Иркутскую тюрьму[3. С. 403].
По агентурным сведениям, значительные ценности, отданные на хранение в Вознесенский монастырь состоятельными беженцами с Запада, были спрятаны в раке Сибирского святого Иннокентия. Но во избежание выступления верующих по поводу осквернения святыни, Губчека временно воздержалась от обысков и вскрытия раки. Но 24 января 1921 г. рака святого была вскрыта Особой комиссией, избранной съездом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, проходившем в Иркутске. Ценности обнаружены не были.
В Знаменском женском монастыре также был произведён обыск. По выражению Чудновского, обнаруженные в нём «ряд бездокументных попов» [3. С. 405], были арестованы, зарегистрированы и освобождены на поруки местного Епархиального Совета. Не удалось задержать протоиерея Николая Троицкого, бежавшего из Казани и живущего нелегально.
В результате «духовная периферия была терроризирована начавшимися репрессиями… и воздерживалась, от каких-либо выступлений» [3. С. 407]. Тем не менее, от уездных и сельских ревкомов в Губчека поступала информации о том, что местное духовенство, пользуясь тем, что «карательный аппарат не смог раскинуть сеть своих учреждений по губернии», не смирилось и «открыто, ведёт погромную агитацию» [1, л. 3].
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что широкие слои населения Иркутской губернии проявили нигилистическое отношение к установлению в 1920 г. советской власти. Неслучайно руководители Губчека отмечали, что «со стороны обывательщины и кулацкой (т. е. большей – авт.) части крестьян живёт ожидание, что территория Иркутской губернии войдёт в сферу Буфера (т. е. ДВР – авт.), который в данный момент является клоакой, где кишит вся контрреволюционная масса, сумевшая удрать из пределов Советской власти»[1, л. 1].
При этом следует учитывать, что в «удовлетворительно настроенных воинских частях», которыми располагала новая власть, рядовой состав, по её же оценке, на 60 % состоял из бывших колчаковских солдат, а командный – на 10 % из белогвардейских офицеров. [1, л. 3]. Более чем наполовину состояла из бывших колчаковских милиционеров советская милиция.
Не имея широкой социальной базы и массовой поддержки местного населения после падения диктатуры А. В. Колчака, большевики должны были в Иркутской губернии или отказаться от реализации своих программных установок, проводя либеральную социально- экономическую политику и в результате формируя правовую систему государственного управления, или, «не поступаясь принципами» устанавливать свою власть, развязывая очередной раунд Гражданской войны и утверждая господство правового нигилизма.
Список литературы Утверждение советской власти в Иркутской губернии в 1920 году и правовой нигилизм её населения
- ГАИО. Ф. Р-145, Оп. 4, Д. 6, Л. 1
- РГВА, Ф. 185, Оп. 6, Д. 24, Л. 518.
- Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. -Иркутск: ВСКИ, 1994. -С. 400.