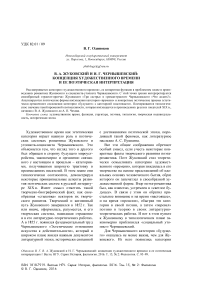В. А. Жуковский и Н. Г. Чернышевский: концепция художественного времени и ее поэтическая интерпретация
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается категория «художественного времени», ее конкретная функция в проблемном плане в произведениях романтика Жуковского и социалиста-утописта Чернышевского. С этой точки зрения интерпретируется своеобразный «трактат-притча» Жуковского «Три сестры» и «роман-трактат» Чернышевского «Что делать?». Анализируются поэтические формы воплощения категории «времени» и конкретные поэтические приемы эстетически органичного соединения категории «будущего» с категорией «настоящего». Подчеркивается типологическое значение такой временной соотнесенности, которая воплощается в произведениях русских писателей XIX в., начиная с В. А. Жуковского до А. П. Чехова.
Художественное время, функция, структура, поэтика, типология, творческая индивидуальность, историческая эпоха
Короткий адрес: https://sciup.org/147219533
IDR: 147219533 | УДК: 82.01
Текст научной статьи В. А. Жуковский и Н. Г. Чернышевский: концепция художественного времени и ее поэтическая интерпретация
Художественное время как эстетическая категория играет важную роль в поэтических системах романтика Жуковского и утописта-социалиста Чернышевского. Это объясняется тем, что взгляд того и другого был обращен в сторону будущего мироустройства, закономерно и органично связанного с настоящим и прошлым – категориями, получившими широкую трактовку в произведениях писателей. В этом плане они типологически соотносятся, демонстрируя некоторые принципиальные аспекты развития поэтических систем в русской литературе XIX в. Имеет смысл отметить такой творческо-биографический факт, как своеобразная «стыковка» векторов их творческого развития. Творческий и жизненный путь Жуковского завершился в 1852 г. Так или иначе, оформилась, разумеется, и его творческая система, нашедшая отражение и в его литературно-теоретических работах. А в 1855 г. появился фундаментальный труд Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», который в широком плане явился важным документом литературной эпохи, исторически связанной с достижениями поэтической эпохи, породившей такой феномен, как литературное наследие А. С. Пушкина.
Все эти общие соображения обретают особый смысл, если учесть некоторые конкретные факты творческого развития поэта-романтика. Поэт Жуковский стал теоретически осмысливать категорию художественного «времени», которая зиждилась в его творчестве на основе представлений об идеальных основах человеческого бытия, образ которого он запечатлел в своеобразной художественной форме. Взор поэта-романтика был, как известно, устремлен в «светлое будущее». В связи с этим он обратил пристальное внимание и на время «настоящее», и на время «прошлое», обыграв эти категории в своей поэзии, а затем «перевел» поэзию в теорию в своих литературнотеоретических работах. И вот в этом пункте к Жуковскому в типологическом плане закономерно приблизился «социальный утопист» Чернышевский.
Для Чернышевского категория «будущего» оказалась не менее важна, чем для Жуковского. Из него появились категории
Одиноков В. Г. В. А. Жуковский и Н. Г. Чернышевский: концепция художественного времени и ее поэтическая интерпретация // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 2: Филология. С. 95–99.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 2: Филология © В. Г. Одинокое, 2016
«прошлого» и «настоящего» времени. Но если Жуковский в итоге пришел к теоретическому осмыслению категории «времени», Чернышевский в своем творчестве, наоборот, «транспонировал» теоретические представления о «времени» в художественнопоэтический план, создав свой роман «Что делать?». Таким образом, в плане решения одной проблемной задачи Жуковский углубился в теорию, а Чернышевский оказался под куполом «храма Аполлона», создав соответствующий художественный текст.
Теперь посмотрим, как это конкретно происходило в контексте русского литературного процесса XIX в. Жуковский написал статью, своеобразный «трактат-притчу», в которой он пытался убедить читателя в возможности наступления «светлого будущего». Это произведение он озаглавил «Три сестры», как бы пророчески предсказывая драматургический феномен А. П. Чехова. Но в ближайшей перспективе в этом плане просматривается творческая личность и конкретные литературные приемы Чернышевского, интерпретирующие связь «времен» на пути к будущему, предположительно идеальному мироустройству.
В статье «Три сестры», написанной в 1808 г., Жуковский делает попытку раскрыть диалектическую сложность понятия «времени». В своих теоретических размышлениях он опирается на смысловую основу и поэтические приемы собственной баллады «Эолова арфа». Читатель в данном случае находится в плену одновременно и поэтического текста, и теоретических аргументов автора. В «Трех сестрах» фигурирует поэтический образ Минваны, попавший в контекст статьи из названной баллады и обретший под пером Жуковского особый знаковый смысл, поскольку связан с универсальным восприятием категории «времени» как диалектического единства «прошлого, настоящего и будущего». Минвана – это воплощенный вечный «звук» арфы Эола, который осмысливается поэтом в диалогической соотнесенности «прошлого, настоящего и будущего». А эти категории представлены Жуковским как «три сестры», с которыми общается Минвана.
В начале статьи Жуковский подчеркивает особую значимость временных категорий для духовной жизни всего человечества: «Вся наша жизнь была бы одним последствием скучных и несвязных сновидений, ко- гда бы с настоящим не соединил тесно ни будущее, ни прошедшее – три неразлучные эпохи: одна украшает другую, одна от другой заимствует прелесть» [Жуковский, 1954. С. 485]. При этом писатель подчеркивает строгую необходимость учитывать связь эпох, представляющих нерасчленимую систему, подобную семейному клану «трех сестер». Одна из «сестер» у Жуковского говорит: «…Тот, кого полюбит одна, становится любезен и другим; противный одной необходимо должен быть противен и прочим» [Там же].
«Поэтическая вселенная», как ее представляет Жуковский, должна быть представлена в концентрированной форме в художественном мире писателя-творца. В этом заключается и его гражданская миссия, требующая исторического подхода и к явлениям феноменологического ряда. Следует обратить внимание на то, что в 1808 г. Жуковский опубликовал статью «Писатель в обществе», в которой он утверждал, что духовная вселенная, как и философский универсум, в литературе должны быть представлены в современных писателю жизненных и актуализированных эпохой формах. В заключении автор пишет: «…Вселенная, со всеми ее радостями, должна быть заключена в той мирной обители, где он (писатель – В. О .) мыслит и где он любит» [Жуковский, 1954. С. 507[.
Концептуально и иллюстративно «три сестры» Жуковского задолго до Чехова дают знать о себе в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Логика такого рода преемственности состояла в том, что движение к «светлому будущему» («Перемена декораций») в сознании философа-утописта Чернышевского и поэта-романтика Жуковского было связано с осмыслением структуры «временного космоса», который зиждился на основе единства «прошлого», «настоящего» и «будущего». На основе такого принципиального единства, по утверждению Чернышевского, правомерно прогнозировать будущее, в том числе и «светлое будущее». В романе «Что делать?» такая историческая «осведомленность» представлена в известном программном диалоге двух персонажей:
«– Так что ж такое? Вы начинаете рассказывать о 1865 годе?
– Так.
– Да можно ли это, помилуйте!
– Почему ж нельзя, если я знаю?
– Полноте, кто же станет вас слушать!
– Неужели вам не угодно?
– За кого вы меня принимаете? – Конечно, нет.
– Если вам теперь не угодно, я, разумеется, должен отложить продолжение моего рассказа до того времени, когда вам угодно будет его слушать. Надеюсь дождаться этого довольно скоро» [Чернышевский, 1975. С. 344].
Этот диалог в повествовательной стратегии Чернышевского играет роль эпиграфа, который требует наглядной, образной расшифровки. Автор предлагает, по сути, парадоксальный вариант восприятия художественного времени, в результате которого «будущее» воспринимается читателем как «настоящее», и не как «формула», а как картина «живой жизни». Для этого Чернышевский как повествователь затевает своеобразную «игру» с читателем, перенося его из одной временной зоны в другую. При этом учитывается чисто «развлекательный» фактор.
Роман начинается с описания мнимого «ухода» из жизни главного героя Лопухова. Начальная глава, предваряющая дальнейшую историю жизни героев, своей жизненной конкретикой фиксирует внимание читателя. И когда автор в системе романного сюжета подходит к сцене «ухода» героя, никакой детализации не требуется. Все это уже было в начале повествования. Прошлое актуализируется, а настоящее переходит в зону прошлого. Настоящее в своеобразной хронологической иерархии становится «прошлым», а «будущее» – «настоящим». Это соображение, подверстанное под вышеприведенный диалог, и дает уверенность одному из собеседников трактовать явления 1865 г. как явления «сегодняшнего дня».
Важно в данном случае найти программирующий алгоритм, который «настоящее» транспонировал бы в сферу «будущего». Для Чернышевского настоящее выстраивалось как исторически модифицированный вариант прошлого, а будущее как гипотетически предполагаемый, но вместе с тем реально возможный вариант настоящего, переходящего через «границу» в зону «будущего» И он в картинах реальной жизни ищет элементы, пророчески представленные самым авторитетным человеческим документом, который был у автора под руками. Этот документ – Священное Писание и свя- тоотеческое предание, которые были известны и понятны «народу-богоносцу», по определению славянофилов. Феноменальность этого факта заключается в том, что Гоголь, например, на этой основе написал «Размышления о Божественной литургии», которые подкрепляли его не только метафизические, но и социально-общественные прогнозы, а Чернышевский выстроил перспективную программу обновления общества, подкрепив ее, как ни странно, на первый взгляд, авторитетом «Апокалипсиса» Иоанна Богослова, в котором предсказано «будущее».
«Настоящее» было у Чернышевского перед глазами, а «будущее» он смоделировал из материалов «настоящего», но ориентируясь на «Апокалипсис». С точки зрения формы социально-общественного прогноза Чернышевский следовал за «поздним» Гоголем, которого он, в свое время, в отличие от Белинского, не осуждал, объясняя «феномен» писателя историческими обстоятельствами. Чернышевский ввел «будущее» в контекст «настоящего» с помощью текстов религиозных пророчеств. В этом плане он был весьма «толерантен», используя для утверждения своих «революционных» идей «революционный» потенциал Священных текстов 1. Не случайно, очевидно, Н. А. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» подчеркнул соотнесенность коммунистической доктрины с христианской догматикой.
Таким образом, Чернышевский подкрепил свой социальный идеал «светлого и прекрасного будущего» религиозной доктриной, что для общественного сознания было очень важно, поскольку в таком случае едва ли кто-либо идею «светлого будущего» решился бы поставить под сомнение. Художественная задача писателя заключалась в том, чтобы соединить в повествовательной структуре «будущее» с «настоящим», как это прогнозировалось еще Жуковским. Вышел Чернышевский из этого положения следующим образом: все «пророчества» в романе «Что делать?» были заключены в форму «снов» главной героини Веры Павловны. Это была удобная и органичная форма соединения будущего с настоящим, ибо кому же придет в голову «опровергать» сон? Нужно отметить, что такую функцию «сна» утверждал в своих балладах и Жуковский. При этом он форму сна связывал с Божественным откровением.
В балладе «Светлана» сказано: «Лучший друг нам в жизни сей – вера в Провиденье». Далее автор утверждает: «Благ Зиждителя закон». Но Жуковский предупреждает: «Здесь несчастье – лживый сон…» В снах Веры Павловны реализуется мечта о «светлом будущем», которое, по мысли автора, программируется универсальным законом «Зиждителя». Сакральное совпадает с социальным. Сны же Веры Павловны – это пробуждение от лживого «сна жизни», это именно счастье, «счастье – пробужденье», как писал Жуковский.
Парадоксальность ситуации в том, что сны героини – это и есть «пробуждение от сна жизни» и постижение «высшей истины», лежащей в основе миропорядка, частью которого является социальное устройство общества. Следовательно, уход от прошлого – это шаг в будущее. Настоящее есть центр этого «временного» процесса. К этой теме позже подойдет и А. П. Чехов, поставив своеобразную точку в осмыслении концепции «времени» своей бессмертной пьесой «Три сестры». Тема эта была открыта В. А. Жуковским, прошла через определенные стадии осмысления и воплощения в русском литературном процессе и завершена в типологическом плане в творческой лаборатории автора «Трех сестер», А. П. Чехова.
Список литературы В. А. Жуковский и Н. Г. Чернышевский: концепция художественного времени и ее поэтическая интерпретация
- Жуковский В. А. Сочинения. М.: ГИХЛ, 1954. 564 с.
- Одиноков В. Г. Русские писатели XIX века и духовная культура. Новосибирск, 2003. 262 с.
- Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. 870 с.