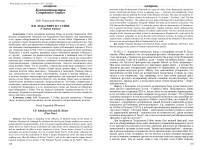В. Ф. Ходасевич и Г. Гейне (статья первая)
Автор: Успенский Павел Федорович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 1 (40), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена влиянию Гейне на поэзию Ходасевича. Хотя русская литературная традиция для Ходасевича была важнее, чем европейская, в его лирике обнаруживается ощутимый пласт поэзии Гейне. Обращение к Гейне в ранних стихах Ходасевича можно охарактеризовать как поверхностное. Оно необходимо либо для ироничного изображения любви («Стихи о кузине»), либо для описания типизированного немецкого города («В немецком городке»). В стихах «Тяжелой лиры» (1920-1922 гг.) усвоение Гейне оказывается более глубоким. Ходасевич, с одной стороны, развивает едкую гейневскую иронию («Жизель»), а с другой - усваивает его романтическое отношение к любовной теме («Странник прошел, опираясь на посох…»). Соседство в рамках книги как смыслового единства двух тематически близких любовных стихотворений, трактующих тему в противоположных - ироничном и романтическом - модусах, несомненно, индикатор влияния Гейне. Это не отменяет и переосмысления ряда гейновских тем в таких стихах, как «Анюте», «Улика», «Горит звезда, дрожит эфир…». Новый этап усвоения поэтики Гейне наметился у Ходасевича в эмиграции. Помимо «Баллады», показательно в этом плане стихотворение «Старик и девочка горбунья…», в поэтике которого аккумулируются характерные для немецкой поэзии темы в целом и стихи Гейне в частности. Вместе с тем, влияние Гейне здесь осложняется тематическим влиянием немецких экспрессионистов. Эта новая, сатирическая и социальная, линия усвоения стихов немецкого поэта не получила своего развития в творчестве Ходасевича, и в его эмигрантских стихах мы больше не обнаруживаем обращения к Гейне. Что же касается немецких экспрессионистов, то, по-видимому, Ходасевич в некоторой степени испытал влияние их поэзии, однако его нельзя признать существенным.
В.ф. ходасевич, г. гейне, русский символизм, "тяжелая лира", поэзия русской эмиграции, поэзия немецкого экспрессионизма, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14914591
IDR: 14914591
Текст научной статьи В. Ф. Ходасевич и Г. Гейне (статья первая)
В 1922 г. Г. Адамович язвительно писал о специфике поэзии В. Ходасевича: «Мне кажется, что эти традиции русского литераторства - не чистые традиции, с привкусом восьмидесятничества в искусстве Ходасевича очень сильны. Едва ли я ошибусь, если - назвав случайные имена - предположу, что Аполлон Григорьев ему дороже Леконт де Лиля, например»1. При всем скепсисе Адамовича это замечание скорее верно - в поэзии Ходасевича русская литературная традиция от Державина до символизма всегда играла ведущую роль2. Между тем, невозможно утверждать, что европейская поэзия вовсе не интересовала Ходасевича и никак не отразилась в его творчестве. Так, например, поэт (как почти каждый представитель русского модернизма) испытал влияние поэзии Бодлера3; оно проявилось, прежде всего, в последнем цикле стихов Ходасевича - «Европейская ночь»4.
Наряду с Бодлером для русского модернизма было существенно влияние другого европейского поэта - Генриха Гейне. Популярность Гейне возникла еще в середине XIX в., когда стихи поэта активно переводились, а его поэтика стала оказывать влияние на русскую поэзию5. Это глубокое усвоение немецкого поэта русской культурой позволило уже на рубеже веков говорить о феномене «русского Гейне»: стихи Гейне, по словам И. Анненского, «своеобразно воспринятые нашей больной славянской душою, показались ей близкими, почти родными»6. Ср., впрочем, статью А. Блока «Гейне в России» (1919), в которой критиковались переводы и поэтика «русского Гейне»7. Поэтика Гейне - некоторыми своими темами и, конечно, характерной иронией - повлияла как на символистов8, среди которых особенно выделяется А. Блок9, так и на постсимволистов (Мандельштама, Цветаеву и других поэтов)10.
Для модерниста Ходасевича Гейне также был важной фигурой, хотя мы и не обнаруживаем сколь-либо значимых упоминаний немецкого поэта в его критике или письмах (поэтому, вероятно, филологи не обращались к вынесенной в заглавие статьи теме). Задача настоящей работы - показать, как в разные периоды в творчестве поэта преломлялась поэтика Гейне. Пожалуй, сразу стоит оговорить, что во многих случаях влияние немецкого поэта осложнено влиянием других поэтических текстов и редко предстает в чистом виде. Тем не менее, даже в этих случаях голос Гейне (хорошо изученный в научной традиции11) заметен достаточно отчетливо, чтобы его зафиксировать.
Впервые поэтика Гейне проявляется в дебютной книге Ходасевича -«Молодость» (1908). Цикл «Стихи о кузине» (1907), узловой в сборнике, посвящен стилизованному описанию отношений с кузиной, развивающимся в усадебном пространстве. Поэтика этого цикла, с одной стороны, навеяна стилизованными описаниями дворянской жизни XVIII в. из книги А. Белого «Золото в лазури» (1904; раздел «Прежде и теперь») и конкретно стихотворением из этого сборника - «Объяснение в любви...» («Сияет роса на листочках...»). С другой стороны, молодой Ходасевич в описании любовных отношений явным образом ориентировался на раннюю любовную лирику Брюсова12. Однако сквозь план символистской поэтики в этом цикле проступает и влияние Гейне, причем автор сам его акцентирует -«Стихи о кузине» открываются эпиграфом из цикла Гейне «Возвращение на родину» («Книга песен»; 1827): «Madchen mil dem roten Miindchen» («Девочка с красным ротиком»),
В ироничном стихотворении Гейне дано утрированное описание возлюбленной и любовных отношений (здесь и далее в таблице мы приводим в левом столбце оригинал, в середине - подстрочник, а в правом столбце -литературный перевод, который мог читать Ходасевич. Такое решение продиктовано тем, что мы до конца не можем быть уверенными, читал ли Ходасевич Гейне в подлиннике):
|
*** Madchen mit dem roten Miindchen, Mit den Auglein siiB mid klar, Du mem liebes, kleines Madchen, Demer denk ich immerdar. Lang ist heut der Winterabend, Und ich mochte bei dir sein, Bei dir sitzen, mit dir schwatzen, Im vertrauten Kammer-lem. An die Lippen wollt ich pressen Deme kleme, weiBe Hand, Und mit Tranen sie be-netzen, Deme kleme, weiBe Hand13. |
*** Девочка с красным ротиком, С глазками сладкими и чистыми, Ты моя любимая, маленькая девочка, О тебе я думаю всегда. Сегодня зимний вечер долог, И я хочу быть с тобой, С тобой сидеть, с тобой болтать, В знакомой комнатушке. К губам я бы хотел прижать Твою маленькую, белую ручку, И слезами ее увлажнить, Твою маленькую, белую ручку. |
*** О твоих пурпурных губках, О глазах, светлее дня, О тебе, моя малютка, День и ночь мечтаю я. Длинен нынче зимний вечер... Я б хотел, друг милый мой, В нашей комнатке уютной Посидеть теперь с тобой. Я к устам своим прижал бы Ручку белую твою, Орошал бы я слезами Ручку белую твою14. (Пер. А.Л. Шкаффа) |
Это утрированное изображение любовных отношений задает тон всем «Стихам о кузине». Как и в стихах Гейне, преувеличенная чувствительность и эротический флер занимают центральное место в каждом из четырех стихотворений цикла Ходасевича: «И поцелуи у жасмина! / И милая покатость плеч!»; «Шептать стихи, волнуясь горячо, / Ив темноте, над дремлющей куртиной, / Чуть различать склоненное плечо!»; «И мы таимся под окном, / А поцелуи - глубже, слаще...»; «Не плачь. Ужели не отдаст она / Моим устам твои уста?»15. Вместе с тем стихи Гейне явно ироничны, и эпиграф к циклу призван подчеркнуть насмешливый тон Ходасевича. «Стихи о кузине» ироничны за счет того, что чрезмерно перегружены общими местами романтической лирики - прием, использованный Гейне в «Книге песен» и ставший характерным «гейневским» после выхода цикла «Новая весна».
«Стихи о кузине» связаны с Гейне и в биографическом плане. Известно, что значительная часть стихов «Книги песен» возникла под влиянием влюбленности поэта в Амалию Гейне, дочь его дяди. «Подробных фактических сведений об этой любви мы не имеем, знаем только, что, невидимому, Амалия не разделяла страсти своего шестнадцатилетнего кузена и что несколько лет спустя она вышла за купца Фридлендера», - писал русскоязычный биограф Гейне П.И. Вейнберг16. Ходасевич обратился к этому сюжету, по-видимому, по двум причинам. Во-первых, в рамках русского символизма поэтическая история любви к двоюродной сестре приобретала черты запретного, «декадентского» чувства. Во-вторых, сочиняя «Стихи о кузине», Ходасевич одновременно реализовывал свой жизнетворческий эксперимент, создавая не только «текст искусства» (сборник «Молодость»), но и дублирующий его «текст жизни». Весна и лето 1907 г. (когда был написан основной корпус стихов «Молодости») были для Ходасевича временем распада его семейной жизни. Сложные обстоятельства отношений с женой, М. Рындиной, поэт использовал в качестве матрицы для основных тем поэтического сборника17. В таком контексте «Стихи о кузине» оказываются мнимо оптимистичным циклом, в смысловом плане которого явно прочитываются (благодаря обращению к Гейне) темы разрыва и трагической развязки отношений.
После сборника «Молодость» поэзия Гейне на долгое время уходит из поэтического мира Ходасевича. Вновь он к ней обратился лишь в 1914 г, когда написал для театра-кабаре «Летучая мышь» три стихотворения-подписи к силуэтам18, которые были опубликованы как небольшой цикл «В немецком городке» (Новый журнал. 1914. № 7). Одно из этих стихотворений - «Акробат» - вошло в фонд лучших стихов Ходасевича; к нему мы обратимся ниже, а сначала обратим внимание на два других стихотворения, в которых видно влияние Гейне:
Новый филологический вестник. 2017. №1(40).
»И^Е№
|
Весна Весело чижик поет В маленькой ивовой клетке. Снова весна настает, Бойко судачат соседки: |
Серенада Счастливая примета: Направо лунный глаз. О милая Нанета! Приди послушать нас! |
|
«Нет, не уйдешь от судьбы: Все дорожает картофель!..» Вон - трубочист из трубы Кажет курносый свой профиль... |
Сиренью томно вея, Туманит нас весна. О, выгляни скорее Из узкого окна! |
|
К шляпе приделав султан, В память былого, от скуки, Учит старик Иоганн Деток военной науке. |
Пускай полоска света На камни упадет И милая Нанета По лесенке сойдет, |
|
Плещется флаг голубой, Кто-то свистит на кларнете... Боже мой, Боже ты мой, -Сколько веселья на свете! |
Пусть каждому приколет Желтофиоль на грудь И каждому позволит Вздохнуть о чем-нибудь19. |
С Гейне эти стихи связаны авторской иронией - меланхоличной в «Весне» и мечтательной в «Серенаде». Своей городской топикой - описание жизни немецкого городка - «Весна» перекликается с циклом немецкого поэта «Снова на родине». Город, в который вернулся лирический герой, не играет в цикле важной роли, однако в некоторых стихах мы обнаруживаем небольшие городские зарисовки. См., например: «Когда мимо этого дома / Иду поутру я, грустя, / Я рад, если ты у окошка / Стоишь, дорогое дитя!»; «Привет тебе, громадный город!»; «Пусты улицы все, ночь тиха и светла. / В этом доме моя дорогая жила»; «Старуха над библией дремлет, / Сын тупо на свечку глядит, / Дочь старшая сонно зевает, / А младшая дочь говорит»20. Вместе с тем в том же цикле Гейне есть целый ряд «панорамных» стихотворений, описывающих преимущественно сельскую местность. В этих стихах сельские зарисовки, как правило, сочетаются с состоянием тоски лирического героя («Сырая и бурная полночь...»; «Не радует вешнее солнце.. ,»21). В «Весне» Ходасевича поэтический принцип «сельских» стихов Гейне распространяется на описание немецкого городка.
Грустно-ироничный финал «Весны» как будто повторяет ироничные поантированные финалы Гейне. Здесь необходимо вновь вспомнить о стихотворении «Не радует вешнее солнце...», в котором, после перечисления увиденных картин, лирический герой мысленно обращается к сторожащему башню солдату:
^пафеу?^
|
Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnen-roth, Er prasentirt und schul-tert - Ich wollt’, er schosse mich todt22. |
Он играет своим ружьем, Оно сверкает в солнечном свете, Он берет на караул и на плечо - Я б хотел, чтоб он застрелил меня насмерть. |
Играет ружьем он, и ярко Сверкает на солнце ружье. .. “На пле-чо! На кра-ул!” Солдатик, Прицелься ты в сердце мое! 23 (пер. М.Л. Михайлова) |
Таким образом, и структура стихотворения «Весна», и эмоциональное состояние лирического героя ориентированы на поэтику цикла Гейне. Вместе с тем несложно заметить, что из смыслового плана текста Ходасевич исключает главную тему «Возвращения на родину» - любовь лирического героя. Она проявится в следующем стихотворении - «Серенада».
«Серенаду» сложно признать однозначно «гейневскими» стихами, хотя это стихотворение во многом отсылает к лирике немецкого поэта. Так, выбранный Ходасевичем жанр (песня для возлюбленной) Гейне никогда не выносил в заглавие, но он полностью соответствует жанровому замыслу «Книги песен» и основной теме (романтической) главных циклов 1830-х гг: «Новая весна» и «Разные». Как в «Новой весне», в стихотворении Ходасевича доводится до крайности романтическая образность. Подчеркнуто фольклоризированая «мистическая» луна («счастливая примета») и магическое влияние аромата сирени напоминает о романтическом тоне цикла Гейне, где также «сгущается» и оттеняется иронией романтическая традиция:
|
Es hat die wanne Friihling-snacht Die Blumen hervorget-rieben, Und nimmt mem Herz sich nicht in acht, So wird es sich wieder ver-lieben. Ich wandle miter Bhunen Und blithe selber mit; Ich wandle wie im Traume, Und schwanke bei jedem Schritt24. |
Темная весенняя ночь Вырастила цветы И мое сердце не остерегается, Что так оно снова влюбится. Я брожу между цветов И сам с ними цвету; Я брожу как во сне, И качаюсь при каждом шаге. |
Теплой весеннею ночью Много цветов народилось; Надо беречь свое сердце -Как бы опять не влюбилось! («Теплой весеннею ночью...»; пер. ПЛ. Вейнберга) Брожу я в саду меж цветами И сам начинаю цвести, Брожу как во сне, спотыкаюсь На каждом шагу по пути25. («Брожу я в саду меж цветами...»; пер. ПЛ. Вейнберга) |
В «Новой весне» регулярно встречается цветочная метафорика, причем для многих текстов она оказывается центральным мотивом. См., например, начало тридцать третьего стихотворения цикла:
|
Morgens send ich dir die Veilchen, Die ich frith im Wald ge-fimden, Und des Abends bring ich Rosen, Die ich brach in Dammrungstunden. WeiBt du, was die hiib-schen Blumen Dir Verbliuntes sagen mochten?26 |
Утром я посылаю тебе фиалки, Которые я прежде нашел в лесу, И вечером я приношу розы, Которые я собрал в сумеречные часы. Знаешь ли ты, что милые цветы Тебе тайно хотят сказать? |
Я утром тебе посылаю Фиалки, что утром собрал я в лесу, А розы, что в сумерки посланы мною, Тебе в час вечерний несу. Ты знаешь ли, что я хотел бы Тебе этой речью цветочной внушить? («Я утром тебе посылаю...»; пер. П.И. Вейнберга)21 |
В стилизованной «Серенаде» Ходасевича этот «цветочный» мотив не менее навязчив (см. «сирень» во второй строфе и «желтофиоль» в последней).
Таким образом, «Весна» и «Серенада» включают в свой поэтический строй многие мотивы лирики Гейне. Если же рассматривать эти стихотворения как диптих, то он в целом оказывается очень «гейневским»: романтические мотивы весны и любви сочетаются с условным поэтическим миром, авторской иронией и тоской лирического героя. Влияние немецкого поэта в этих стихах легко объяснимо: они создавались как подписи к силуэтам, и их тема была задана изначально. Заданная немецкая тема, в свою очередь, естественным образом провоцировала обратиться к поэтическим темам и приемам Гейне.
Более сложным образом дело обстоит со стихотворением «Акробат», которое изначально входило в цикл «В немецком городке». Хотя в редакции 1913 г. это стихотворение, по-видимому не было напрямую связано с лирикой Гейне, в контексте «Весны» и «Серенады» в нем также можно увидеть гейневские мотивы. В 1921 г, в период написания «Тяжелой лиры», Ходасевич дополнил стихотворение новым финалом: «А если, сорвавшись, фигляр упадет...». В обновленном варианте стихотворения по-антированное сравнение ремесла поэта с профессией акробата перекликается с фрагментом из «Путевых картин» (1826-1831) Гейне:
|
...Но небо прозрачно, и прочен канат. Легко и спокойно идет акробат. |
Тяжелый труд, невыразимая устойчивость, скрежет зубов в зимние ночи, страшные усилия, с которыми он <поэт - П. У. > вырабатывает свои стихи -все это наш брат открывает гораздо скорее, чем |
|
А если, сорвавшись, фигляр упадет И, охнув, закрестится лживый народ, - |
обыкновенный читатель, для которого гладкость, красивость и политура этих стихов графа представляются чем-то легким, которому без размышления приятно увлекаться гладкой игрой слов, точно так же, как мы в течение нескольких часов |
|
Поэт, проходи с безучастным лицом: |
забавляемся акробатами, пляшущими на канате и становящимися вниз головой, не думая, что эти бедняки приобрели такое костоломное искусство, |
|
Ты сам не таким ли живешь ремеслом?28 |
такую метрику тела тяжелой работой в продолжение многих лет и страшным голоданием29. |
Таким образом, «Акробат» был отделен от игриво ироничного цикла «В немецком городке», однако основной поэтический образец бывшего «немецкого» текста, как кажется, не изменился. Даже значительно усложняя идею стихотворения, Ходасевич выдержал его в русле «гейневской» поэтики. В этом случае Гейне как автор ироничных любовных стихотворений и бытовых немецких зарисовок в 1921 г. для Ходасевича больше не актуален, - на первом плане оказывается Гейне-прозаик, рефлексирующий по поводу роли поэта в обществе.
К мотивам лирики Гейне в творчестве Ходасевича 1921 г. мы вернемся ниже, а пока обратим внимание на одно стихотворение из книги «Путем зерна». Вообще для этого сборника Ходасевича поэзия Гейне скорее не актуальна. Однако в одном стихотворении - послании «Анюте» (1918) -проявляется ориентация на поэтику «последнего немецкого романтика»:
На спичечной коробке -Смотри-ка - славный вид -Кораблик трехмачтовый Не двигаясь бежит.
Не разглядишь, а верно -Команда есть на нем, И в тесном трюме, в бочках, Изюм, корица, ром.
И есть на нем, конечно, Отважный капитан, Который видел много Непостижимых стран.
И верно - есть матросик, Что мастер песни петь И любит ночью звездной На небеса глядеть...
И я, в руке Господней, Здесь, на Его земле, -Точь-в-точь как тот матросик На этом корабле.
Вот и сейчас, быть может, В каюте кормовой
В окошечко глядит он И видит - нас с тобой30.
Микросюжет четвертой строфы, описывающий «матросика», смотрящего звездной ночью на небо, может восходить к фрагменту стихотворения Гейне «Ночью в каюте»:
|
*** |
*** |
*** |
|
Eingewiegt von |
Убаюканный морскими |
Убаюканный моря |
|
Meereswellen |
волнами |
волнами |
|
Und von traumenden |
И мечтательными |
И мечтами моих |
|
Gedanken, |
МЫСЛЯМИ, |
сновидений, |
|
Lieg’ ich still in der |
Я лежу тихо/спокойно в |
Я лежу, молчаливый, в каюте |
|
Kajiite, |
каюте, |
На печальной и |
|
In dem dunkeln Winkelbette. |
На темной койке. |
сумрачной койке. |
|
Durch die off’ne Luke |
Через открытый люк я |
Через люк растворенный |
|
schau’ ich |
вижу |
я вижу |
|
Droben hoch die hellen |
Высоко наверху светлые |
Над собою блестящие |
|
Sterne, |
звезды, |
звезды - |
|
Die geliebten, stiBen Augen Meiner stiBen Vielgeliebten. |
Любимые, милые глаза Моей милой любимой. |
Дорогие и милые глазки Ненаглядной и милой подруги. |
|
Die geliebten, stiBen Augen, Wachen tiber meinem Haupte, Und sie klingen und sie winken Aus der blauen Himmelsdecke. Nach der blauen Himmelsdecke Schau’ ich selig lange Stunden, Bis ein weiBer Nebelschleier Mir verhullt die lieben Augen31. |
Любимые, милые глаза, Наблюдают за моей головой, И они звучат и они мигают С голубого небосвода. На голубой небосвод Я смотрю блаженно долгие часы, Пока белая пелена тумана От меня не скроет любимые глаза. |
Дорогие и милые глазки Сторожат над моей головою, И блистают они, и кивают С голубого небесного свода. С голубого небесного свода Глаз по целым часам не свожу я, Пока белым покровом тумана Не закроются милые глазки32. (Пер. П.И. Вйенберга) |
С этим стихотворением Гейне послание «Анюте» связано не только сюжетом о влюбленном пассажире корабля, но и своеобразным приемом, который можно охарактеризовать как смещение масштабов реальности. В стихах Гейне мы сталкиваемся с развитием ультраромантической метафоры «глаза (возлюбленной) как звезды», которая здесь инвертируется: «звезды как глаза». Эта метафора отменяет привычные границы физического мира и представления о наблюдателе и наблюдаемом: герой смотрит на небо (в глаза возлюбленной), но и звезды-глаза смотрят на него.
Ходасевич, очевидно, усложняет эту конструкцию. Корабль у него не настоящий, а нарисованный; смотрящий с этого корабля видит не свою возлюбленную, а пару влюбленных - лирического героя и «Анюту»; и, что самое важное, лирический герой описывает двойную символическую систему пространственных отношений, обозначая еще одного «наблюдающего»: Бог^герой - герой (с героиней) <-> матросик или Бог^-герой^матросик. Появление Бога, однако, не нарушает схемы из стихотворения Гейне. В послании «Анюте» сохраняется идея взаимосвязи людей через взгляд, уничтожающий условности физического мира. Более того, образ глаз возлюбленной у Гейне уже содержит семантический пласт, так однозначно выраженный в стихотворении Ходасевича. В гейневском отрывке возлюбленная уподобляется пантеистическому богу, наблюдающему героя (wachen - и ‘бодрствовать’, и ‘сторожить, нести вахту’, в данном контексте - ‘оберегать’), что очень близко к символическому состоянию героя в послании: «в руке Господней».
Лирикой Гейне, впрочем, послание «Анюте» не исчерпывается, - оно также отчасти строится на обыгрывании «Воздушного корабля» Лермонтова, причем текст Ходасевича как будто инверсирует лермонтовские строки: «Не слышно на нем капитана, / Не видно матросов на нем» - ср. «И есть на нем, конечно, / Отважный капитан», «И верно - есть матросик». Вместе с тем, если признать текстуальные переклички закономерными, можно предположить, что Ходасевич инвертирует и сам жанр (мистиче- ской) баллады - таинственное и страшное становится у поэта XX в. идиллическим и уютным, а сюжет о призрачном корабле трансформируется в фантазийное размышление о нарисованном кораблике.
Новый тип обращения к лирике Гейне проявится у Ходасевича во время создания четвертой книги стихов «Тяжелая лира». Об этом речь пойдет в следующей статье.
Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№ 16-01-0004) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2016-2017 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». Выражаем признательность Н.И. Фаликовой за составление подстрочников из Гейне и за помощь в работе.
Список литературы В. Ф. Ходасевич и Г. Гейне (статья первая)
- Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 373.
- Успенский П. Творчество В.Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. -1917 г.). Тарту, 2014.
- Wanner A. Baudelaire in Russia. Florida, 1996.
- Богомолов Н.А. Сопряжение далековатых: о Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче. М., 2011. С. 232-233;
- Иванов Вяч. Вс. Бодлер перед зеркалом//Иностран-ная литература. 1989. № 1. С. 139;
- Успенский П. Почему В. Ходасевич переводил в эмиграции «Стихотворения в прозе» Ш. Бодлера? (о роли переводов в творческой эволюции поэта)//Wiener Slavistischer Almanach. 2016. Bd. 77.
- Гордон Я.И. Гейне в России. 1830-1860. Душанбе, 1973;
- Ачкасов А.В. Лирика Гейне в русских переводах 1840-1860-х годов. Курск, 2003;
- Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 398. (Литературные памятники).
- Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 1973. С. 565;
- Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма//Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. 2. М., 1997. С. 435-436.
- Тынянов Ю.Н. Блок и Гейне // Об Александре Блоке. Пб., 1921. С. 237-264; Ро-нен О. Блок и Гейне // Звезда. 2002. № 11.
- Киршбаум Г. «Ва-лгаллы белое вино…». Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама. М., 2010;
- A Companion to the Works of Heinrich Heine/ed. by R.F. Cook. New-York, 2002; Phelan A. Reading Heinrich Heine. Cambridge, 2006.
- Heinrich Heine’s Gesammelte Werke: Kritische Gesammtausgabe. Bd. 1-9. Berlin, 1887. Bd. 1. P. 167.
- Полное собрание сочинений Генриха Гейне/под ред. и с биограф. очерком П. Вейнберга. Т. 1-6. Изд. 2-е. СПб., 1904. Т. V. С. 95.
- Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. Полное собрание стихотворений/сост., подгот. текста, комментарии Дж. Малмстада, Р. Хьюза. М., 2009. С. 41-44.
- Вейнберг П.И. Жизнь Генриха Гейне. Биографический очерк//Полное собра-ние сочинений Генриха Гейне/под ред. и с биограф. очерком П. Вейнберга. Т. 1-6. Изд. 2-е. СПб., 1904. Т. I. C. 21.
- Шубинский В.И. Владислав Ходасевич: чающий и говорящий. СПб., 2011. С. 204-205.