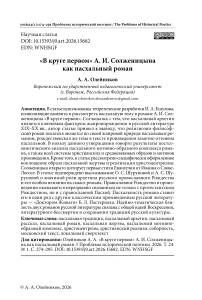«В круге первом» А. И. Солженицына как пасхальный роман
Автор: Олейников А.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье использованы теоретические разработки И. А. Есаулова, позволяющие выявить и рассмотреть пасхальную тему в романе А. И. Солженицына «В круге первом». Соглашаясь с тем, что пасхальный архетип является ключевым фактором жанропорождения в русской литературе XIX‒XX вв., автор статьи пришел к выводу, что религиозно-философский роман писателя является по своей жанровой природе пасхальным романом, рождественская же тема в тексте произведения заметно оттенена пасхальной. В пользу данного утверждения говорят результаты постсемиотического анализа пасхального мотивно-образного комплекса романа, а также всей системы христианских и средневековых образов и мотивов произведения. Кроме того, в статье рассмотрено специфически оформленное воплощение образа пасхальной жертвы и реализация христоцентризма: Солженицын открыто цитирует первые стихи Евангелия от Иоанна о Слове-Логосе. В статье подтверждено высказывание О. С. Шуруповой и А. С. Шуруповой о значимой роли архетипа русского православного Рождества и его особом влиянии на смысл романа. Православное Рождество в произведении оказывается неразрывно связанным не только с протестантским Рождеством, но и с православной Пасхой. Пасхальность романа ставит его в один ряд с другим классическим произведением русской литературы — «Доктором Живаго» Б. Л. Пастернака. Идейно-тематическая близость двух романов русской литературы связана с общей идеей Воскресения, литературного бессмертия и сохранения традиций русской культуры.
Пасхальная традиция, пасхальный архетип, пасхальный рассказ, пасхальный роман, пасхальная жертва, пасхальный мотивно-образный комплекс, христоцентризм, христианский реализм, соборность, московский текст, локальный сверхтекст
Короткий адрес: https://sciup.org/147253041
IDR: 147253041 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.15682
Текст научной статьи «В круге первом» А. И. Солженицына как пасхальный роман
Роман А. И. Солженицына «В круге первом» определяется исследователями как рождественский: «В последней главе романа происходит <…> духовное рождение нескольких героев. И они отправляются в ад — чтобы воскреснуть. В этом суть подлинно рождественского романа А. И. Солженицына» (выделено мной. — А. О.) [Шурупова О. С., Шурупова А. С.: 238]. Анализируя актуализацию рождественского архетипа в произведении писателя, О. С. Шурупова и А. С. Шурупо-ва рассуждают при этом о пасхальном смысле романа «В круге первом». Пасхальная тема тесно сопряжена с мотивами рождения Христа на крестные муки, крестные страдания и следующего за ними самопожертвования, символизирующего окончательную победу над первородным грехом и смертью. За победой над смертью в свою очередь логически следует воскресение и жизнь вечная во Христе. Все перечисленные нами мотивы выступают в качестве неотъемлемых элементов как рождественского, так и пасхального архетипа. Также выдвигается утверждение, согласно которому «архетип русского православного Рождества» определяет «весь смысл романа» [Шурупова О. С., Шурупова А. С.: 238]. Пасхальность романа в свою очередь сопряжена с образами пасхальной жертвы «невинного» Иннокентия Володина и этапируемого Глеба Нержина, травестированной Евхаристии как образа трапезы.
Отметим, что доминантой русской культуры является Пасха. Если быть более точным, то Пасха в русской культуре мыслится как бы шире Рождества, о чем говорится в поговорке: «Экая Пасха — шире Рождества»1.
-
Н. В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» писал:
«В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья» [Гоголь, 2009a: 196].
Исторически сложилось, что в западноевропейской церковной культуре Рождество празднуется больше, чем Пасха, это определяет тип религиозного мироощущения европейца. С. А. Мартьянова также пишет, что «праздник Рождества Христова формирует романное время произведения» А. И. Солженицына [Мартьянова: 446]. Рождество празднуется немецкими и латышскими арестантами:
«Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у елки и, склонив голову, слушали, как один из них, смуглый тонколицый Макс Рихтман, читал протестантскую рождественскую молитву»2 (выделено мной. — А. О .).
Стоит указать и на тот факт, что писатель уделяет особое внимание не «русскому православному Рождеству», а Рождеству западному, о чем можно догадаться уже по датировкам, а также исходя из содержания некоторых глав романа (например, глава «Протестантское Рождество»): действие происходит в три дня, с 24 по 27 декабря 1949 г. 25 декабря — дата западного Рождества. Глубинный же смысл произведения связан вовсе не с Рождеством, а со Светлым Воскресением Христовым, о чем можно судить по многочисленным пасхальным мотивам в структуре текста. Исходя из этого, мы можем утверждать, что произведение А. И. Солженицына «В круге первом» является по своей жанровой природе пасхальным романом . Пасхальность произведения определяется его мотивно-об-разным пасхальным комплексом, а также общими отличительными чертами пасхальной поэтики писателя. Мы проследим актуализацию пасхального архетипа в ряде глав романа «В круге первом». Одна из глав и вовсе носит название «За воскресение мертвых!».
Примечательно, что пасхальность находит свое отражение во всем творчестве А. И. Солженицына: пасхальные мотивы пронизывают и повесть «Раковый корпус», и рассказы (например, очерк «Пасхальный крестный ход», наследующий традиции пасхального рассказа XIX в.). В незавершенной эпопее «Красное колесо» писатель показывает, как русская культура постепенно уходит от значимых религиозных традиций и замещает их ква-зирелигиозной системой ритуалов. Так, С. В. Шешунова утверждает, что в эпопее противопоставлены «революционная псевдопасха и подлинное воскресение из мертвых » [Шешунова: 14].
Многими философами и теоретиками культуры неоднократно отмечалась мнимая антирелигиозность советского общества. Н. А. Бердяев размышлял о религиозных истоках революции в России: «Коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически враждебен всякой религии <…>. Он сам хочет быть религией, идущей на смену христианству…» [Бердяев: 129]. О религиозных корнях русской революции впоследствии рассуждал и А. Д. Синявский: «История как бы кончилась, и начинаются — "новое небо и новая земля". Царство Божие, Небесный Иерусалим сходят на землю, обещая рай на земле. И не Божьим произволением, а усилием самого человека. И это не мечта, а научно доказанная Марксом историческая закономерность…» [Синявский: 9]. Об этом же размышляет на страницах романа и сам А. И. Солженицын, вкладывая в уста героев похожие мысли:
«Ведь весь и всякий социализм — это какая-то карикатура на Евангелие. Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путем»3.
Пасхальный архетип актуализируется в содержании ряда глав романа, в которых, помимо прочего, прослеживаются важные для понимания произведения интертекстуальные переклички с русской классической литературой. Размышления о роли литературы, о труде писателя, о бессмертии и вечной жизни в искусстве — все это не давало покоя как самому А. И. Солженицыну, так и героям его произведений. В одной из глав обращает на себя внимание диалог Иннокентия Володина с Николаем Галаховым, ставшим известным советским писателем, добившимся славы, но не бессмертия. Так, Володин спрашивает Галахова:
«Ты — задумывался?.. как ты сам понимаешь свое место в русской литературе? <…> от этого вопроса ты не уйдешь — кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?..» ( Солженицын, 1969 : 418–419).
Вероятно, те же самые, риторические по существу, вопросы мысленно задавал себе и сам А. И. Солженицын. Галахов в свою очередь парирует:
«Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?..» ( Солженицын, 1969 : 419).
Не зря в романе возникает и образ Потапова-новеллиста с его «Улыбкой Будды», а также как будто случайный образ «гравера-оформителя», открывшего в себе способность писать новеллы. Мастерство безымянного новеллиста, по замечанию «друга семьи», не уступает чеховскому:
«…один старичок, друг их семьи, прочел и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство» ( Солженицын, 1969 : 227).
В итоге роман «последнего классика» оказывается идейнотематически близким другому пасхальному роману русской литературы: «Доктору Живаго» Б. Л. Пастернака. Примечательно, что писатель также использует рождественскую символику для раскрытия пасхальной идеи: литературного бессмертия. И. А. Есаулов писал о возможности скрытого проявления пасхального архетипа в рождественском жанре: «Пасхальный архетип отечественной словесности может проявлять себя таким характерным образом, что в рождественском жанре усматривается имплицитный пасхальный смысл» [Есаулов, 2009: 169]. О пасхальности романа А. И. Солженицына писал еще А. С. Немзер: «…в роман, действие которого разыгрывается в западное Рождество, входит тема Пасхи, праздника Воскресения. Воскресение Нержина — и воскресение Слова, воскресение Культуры, воскресение России…» [Немзер: 136]. Если пасхальный роман А. И. Солженицына обрывается символическими похоронами Глеба Нержина и других этапируемых арестантов, то роман Б. Л. Пастернака, «начавшись со сцены похорон, завершается словами о Воскресении» [Есаулов, 2009: 172]. Вспоминается ряд других пасхальных сочинений, в числе которых поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Неслучайно Солженицын, как и Гоголь, обращается к «Божественной комедии» Данте
Алигьери — итальянского поэта, завоевавшего себе литературное бессмертие, «жизнь в веках».
Пасхальный архетип является доминантой русской литературы XIX в., наследующей православной традиции, в которой изначально и была укоренена древнерусская литература как часть восточнославянской книжности XI–XVII вв. Пасхальный архетип является одним из ключевых факторов жанропорождения в русской литературе XIX–XX вв., с которым связаны специфические филологические категории, вырастающие из эортологии как «праздниковедения» в православном богословии и богословски-ориентированного литературоведения в целом. К данным филологическим категориям относятся следующие литературные явления и понятия: пасхальный мотив, пасхальный сюжет, пасхальный хронотоп и жанры пасхального рассказа и пасхального романа. В пасхальном романе А. И. Солженицына Глеб Нержин и Иннокентий Володин остаются на пороге новой жизни с надеждой на духовное преображение, на воскресение и на преодоление грядущих страданий:
«Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твердо зная свой горький выбор, все еще молился и надеялся» ( Солженицын, 2006 : 603).
Моление о Чаше — одно из ключевых событий Священной истории. Об этом событии Церковь вспоминает в Великий Четверг на Страстной седмице накануне Великой Пятницы, когда совершается служба двенадцати Евангелий. Евангелие от Иоанна неоднократно имплицитно и эксплицитно цитируется в структуре повествования романа «В круге первом». В диалоге Герасимовича с Глебом Нержиным последний вспоминает первые стихи Святого Благовествования от Иоанна:
«Ведь помните: в Начале было Слово. Значит, Слово — исконней бетона? Значит, Слово — не пустяк?» ( Солженицын, 2006 : 551).
Как структура романа Б. Л. Пастернака, так и структура романа А. И. Солженицына являет собой художественно организованное паломничество к Пасхе, что укореняет роман в православной традиции. Именно «одоление» смерти «усильем Воскресенья» [Есаулов, 2017: 540] является центральной темой всего романа «В круге первом». Смысл заглавия раскрывается уже на паратекстуальном уровне, а также в главе «Идея
Данте»: в «Божественной комедии» Данте с Вергилием спускаются в первый круг ада, который опоясывает река Ахерон — граница между мирами живых и мертвых.
Диалог с традицией оказывается определяющим, ключевым пунктом для понимания всего произведения в целом. Здесь нельзя не согласиться с О. С. Шуруповой, утверждавшей, что «Война и мир» Л. Н. Толстого, как один из важнейших претекстов русской литературы XX в., является «ключом к пониманию» романа А. И. Солженицына «В круге первом»: духовные искания дипломата-эпикурейца Иннокентия Володина сопоставляются с личностными поисками Пьера Безухова, Агния оказывается духовно близкой Наташе Ростовой, а Сталин сравнивается с Наполеоном (см.: [Шурупова, 2023]).
В главе романа «Церковь Никиты Мученика» также реализуются мифы «московского текста». Здесь возникают две влюбленные фигуры: Агния (с именем раннехристианской мученицы времен римского императора Диоклетиана) и Антон Николаевич Яконов, инженер-полковник госбезопасности. Восхищаясь красотой архитектурного памятника русского барокко, Агния вспоминает слова летописи XVI в.:
«Бе же церковь та вельми чудна красотою и светлостию…» ( Солженицын, 1969 : 150).
О. С. Шурупова при этом отмечает, что в формировании ми-фотектоники локального сверхтекста, а именно «московского текста», особую роль выполняет концепт «церковь»: «Москва всегда оставалась в народном сознании православной столицей, городом сорока сороков церквей» [Шурупова, 2016: 192]. Москва как город Богородицы и «московский текст» занимают важное место в духовном измерении пасхального романа А. И. Солженицына. Разрушение храма связывается с инфер-нализацией Москвы: «…православная столица превращается в <…> круг ада» [Шурупова, 2023: 89]. «Русь уходящая» становится еще одной темой, перешедшей из русской классики в творчество А. И. Солженицына. Старая Москва с ее патриархальными устоями уходит в прошлое, а впереди — советская Россия без прошлого и без будущего:
«Небо же развернулось — двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.
Не было и никакой Руси, а — Советский Союз, и в нем — большой город» ( Солженицын, 2006 : 406).
Образ Сталина в романе А. И. Солженицына очень важен для понимания авторского замысла. Интересен мифопоэтический аспект образа «Великого Корифея» Иосифа Виссарионовича, который в контексте рождественского сюжета «явно соотносится с образом царя Ирода, напускающего на себя важность и силу, а на самом деле являющегося тираном и самозванцем, ложным царем» [Мартьянова: 447]. Библейские отзвуки образа диктатора звучат и на других страницах романа:
«…бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин» ( Солженицын, 1969 : 489).
Здесь Сталин уподобляется уже не новозаветному царю Ироду, но ветхозаветному египетскому фараону Рамзесу II, что согласуется с отражением «иудейского вопроса» в романе. При этом Сталин некогда был простым «замарашкой Сосо», выпускником тифлисского духовного училища:
«Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал новопослушника, распластанного на холодных каменных плитах. О, с каким усердием стал мальчик служить Богу! как доверился Ему! За шесть лет ученья он по силам долбил Ветхий и Новый Заветы, Жития святых и церковную историю, старательно прислуживал на литургиях» ( Солженицын, 2006 : 92).
Но духовная лестница привела его не к Богу, а «на чердак», как резюмирует сам автор.
Семинарист решил, что правда на стороне силы и шумной толпы Тбилиси, насмехающейся над Богом. Как отмечает А. С. Немзер, «солженицынский Сталин мечтает о полной унификации пространства <…> и отмене времени. <…> Потому и тянутся жадные руки диктатора к сгустку смерти — атомной бомбе» [Немзер: 114]. Поэтому архетип Рождества в пасхальном романе А. И. Солженицына отмечен, скорее, негативным знаком: в нем воплощено не новое рождение героев (в финале их везут на убой как «мясо», они являют собой образ пасхальной жертвы), а смерть и разрушение. Западное Рождество в хронотопе романа ознаменовано рождением апокалиптического оружия, а надежда на воскресение мертвых оборачивается страшным псевдопасхальным смыслом. Апокалиптические интонации звучат в самом начале «искаженной» редакции романа:
«— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!
— Апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова!» ( Солженицын, 1969 : 12).
Когда в «шарашку» приезжают «новички» из «страны ГУЛаг», местные арестанты спрашивают их про «пятна» на одежде, на что «новички» отвечают:
«— Тут наши номера были. Вот на спине еще, на колене. Когда из лагеря отправляли — спороли» ( Солженицын, 1969 : 12).
Валентуля задается вопросом, «прогрессивно» ли это, и адресует его коммунисту Льву Григорьевичу Рубину. Данный эпизод отсылает нас к стихам Откровения:
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их…» (Откр. 13:16).
Пророчества о царстве Антихриста, о его печати переносятся на лагерную действительность «страны ГУЛаг».
Одной из «узловых точек» романа, по мнению А. С. Немзе-ра, является вопрос: «Возможно ли Рождество в соседстве с атомной бомбой?» [Немзер: 112–113]. Нам кажется правильным поставить вопрос иначе: возможна ли Пасха в соседстве с атомной бомбой?
В пасхальном мотивно-образном комплексе произведения специфическая роль отведена Святому Граалю и феномену рыцарства, характерному как для западноевропейской, так и для восточноевропейской средневековых культур. О рыцарстве в своей статье-лекции «О средних веках» писал Н. В. Гоголь:
«Никогда история не представляла обществ, связанных такими неразрывными узами, как эти духовные ордена рыцарей. <…> Уничтожить все, что составляет желание человека, и жить для всего человечества; жить, чтобы быть грозными хранителями мира, чтобы носить в себе одно: защиту веры Христовой; все принести ей в жертву и отказаться от всего, что отзывается выгодою жизни! Не чудесно ли это явление!» [Гоголь, 2009b: 20–21].
Своеобразным «рыцарем» романа выступает и Митя Сологдин. Вспомним его слова о Реформации в споре-поединке, литературно-философской дуэли со Львом Рубиным, с этим «Ваской да Гамой». Реформация для Сологдина — «лютеранское сатанинство!» ( Солженицын, 2006 : 401), а все лучшее, что было в культуре, осталось в далеком прошлом. Для Сологдина рыцарство — «это великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням!» ( Солженицын, 2006 : 400). Если Сологдин считает Средневековье «зенитом истории» и «вершиной человеческого Духа», то прогрессивный коммунист Рубин называет Средние века «мраком», а рыцарство — «тупым» и «надменным». При этом он оказывается гораздо ближе Сологдину, чем думает сам: его рассуждения о «гражданских храмах», защита догм диамата и рьяная вера в ортодоксальность учения Маркса делает Льва настоящим религиозным «одержимцем». В связи с этим спором особое звучание приобретают сцены «комедии суда» над князем Игорем, разыгрываемой «хохмой» Льва Рубина, и диалог Нержина с Кондрашевым, ведь князь Игорь был «представитель как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской истории» ( Солженицын, 2006 : 327).
Обратимся к беседе Нержина и Кондрашева, также рассуждавшего о рыцарстве:
«А к т о изгнал рыцарей из жизни? Любители денег и торговли! Любители вакхических пиров! А к о г о не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый, — не хватает рыцарей !! При рыцарях не было концлагерей! И душегубок не было!» ( Солженицын, 2006 : 277).
Святой Грааль — легендарный мифический культурный артефакт, связанный с легендами о короле Артуре и Лоэнгри-не, сыне Парсифаля. Лоэнгрин — «Хранитель чаши святого Грааля» ( Солженицын, 2006 : 278). Считается, что именно Грааль употребил в Таинстве Евхаристии Спаситель, уподобив вино в нем Своей крови:
«Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие» (Ин. 6:55).
Этот же Грааль был наполнен кровью из ран Христовых и спрятан в замке Святого Грааля, в Монсавальте, Иосифом Арима-фейским, иудейским старейшиной и членом Синедриона. Грааль связан не только с Причастием, но и с Распятием, он является символом крови Христа, а также символическим выражением идеи Воскресения. Кондрашев представляет Нержину свой «эскиз», на котором изображен замок Святого Грааля:
«…не четко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и все же угадываемый в подробностях здешнего несовершенства, — стоял в ореоле невидимого сверхСолнца сизый замок святого Грааля» ( Солженицын, 2006 : 278).
Замок как будто скрывает в себе небесную тайну Пасхи. Интересно, как связаны между собой образы Святого Грааля и атомной бомбы в пасхальном мотивно-образном комплексе романа: «…Грааль как духовный символ романа становится надпространственным и надвременным элементом в структуре текста, явно противопоставленным в силу своей принципиальной гуманистической идеи созидания и совершенства конкретно-историческому образу атомной бомбы, связанному с символической идеей разрушения , как в физическом, так и нравственно-духовном смыслах» [Голикова: 60].
Наиболее рыцарским по своему содержанию произведением русской средневековой эпохи, безусловно, является «Слово о полку Игореве». О пасхальной природе «Слова» писал А. Н. Ужанков: «Совершенно очевидно, что поход, начатый на Пасхальной Светлой седмице, не мог изначально иметь успех, о чем и предупреждало Игоря Святославича солнечное затмение» [Ужанков: 282]. По церковному календарю в 1185 г. первый день Пасхи приходился на 21 апреля. Войско князя Игоря выступило в поход 23 апреля, то есть на второй день после Пасхи. Ранее о пасхальности «Слова о полку Игореве» писал И. А. Есаулов. По его мнению, в финале «Слова…» изображено пасхальное воскресение порубленного полка Игорева, его небесное «воссоединение» с князем Игорем в церкви Богородицы Пирогощей. Пасхальность памятника древнерусской книжности «проявляет себя в финальной вселенской здравице живому князю Игорю и почившей дружине» [Есаулов, 2004: 47].
Обращает на себя внимание глава «Хохма» в «искаженной» редакции, или главы «Досужные затеи» и «Князь Игорь» в «вос-тановленной» версии романа. В этих главах разыгрывается «комедия суда» над князем Игорем, которая разворачивается по всем правилам сталинского правосудия. Штампы и клише советских прокуроров, творчески переосмысленные Рубиным, вскрывают всю абсурдность уголовных дел арестантов, «изменников Родины» и «псов империализма»: изменническая деятельность князя Игоря «проявилась <…> в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся "шеломами испить воды из Дону"» ( Солженицын, 2006 : 322). Русский «беспартийный» князь Ольгович Игорь Святославович в «комедии суда» предстал «активным пособником хана Кончака», он «совершил гнусную измену Родине, соединенную с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством» ( Солженицын, 2006 : 324).
Особое место в романе отведено женам арестантов, которые сравниваются с женами декабристов, писателем утверждается идея их «святого подвига». Т. Е. Смыковская представила интересные размышления о женских образах в творчестве А. И. Солженицына в контексте пасхальной традиции: «Пасхальное восхождение героини, заключенное во внутреннем преображении, торжестве любви над ожесточением, становится одним из элементов, формирующих героя-рыцаря» [Смыков-ская: 99–100]. Тесно связанным с пасхальным образом Святого Грааля в контексте рыцарства в романе, средневековой рыцарской символики оказывается образ Орлеанской Девы:
«Благородное, жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашев-Иванов увидел Орлеанскую Деву!» ( Солженицын, 2006 : 273).
Кондрашев, изобразивший Деву на полотне, свято уверен, что «даже в Иудах лагеря, продавших остатки совести за двести грамм черняшки <…> есть Образ Совершенства, который просто затемнен в них» [Тихомирова: 169–170].
Женские образы в романе А. И. Солженицына приобретают христианские черты, сочетая в себе как богородичное, так и мученическое (мученица-отроковица Надежда Римская, мученица Агнесса и т. д.). Надя Нержина как бы переживает символическое распятие:
«Она стояла как распятая на черной крестовине окна» ( Солженицын, 2006 : 313).
В этот же момент возвращается Щагов и произносит тост:
«Выпьем — з а в о с к р е с е н и е м е р т в ы х!» ( Солженицын, 2006 : 313).
Подчеркивается мотив воскресения не только старой Москвы, как это отмечалось О. С. Шуруповой, но и жен арестантов, их мужей, обретение ими надежды. Таким образом, женские образы в романе А. И. Солженицына занимают особую роль в контексте пасхальной традиции. Пасхальные образы и мотивы, пронизывающие все произведение, сплетаются в кульминационной точке, отмеченной знаком сакральности, — Евхаристии.
В главе «Лицейский стол» сливаются понятия лицейства, товарищества, братства и соборности. Именно здесь вновь возникает цитата из Евангелия от Иоанна:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Соборное братство арестантов превращается в семью «шарашки», что связано с пушкинской оппозицией «воля — неволя» и товариществом-семьей (Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин).
Парадоксальность положения героев связана с их ощущением свободы в тюрьме, где, казалось бы, это невозможно: только в тюрьме, в неволе мог быть собран «мужской вольный лицейский стол». «Виновником сборища» становится Глеб Нержин, который вспоследствии должен перенести страдания собственной Голгофы. Невольные сравнения с Христом видны из речи героя, когда тот говорит, обращаясь к друзьям, о своем возрасте:
«Мне тридцать один год. Уже меня жизнь и баловала, и низвергала. <…> Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. <…> Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах!» ( Солженицын, 2006 : 339).
Поэтому также «четыре гвоздя», которыми был пригвожден ко кресту Спаситель, четыре стигматы ассоциируются именно с Глебом Нержиным.
Фигурирует в травестированной Вечери и профанное вино:
«Все же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил» ( Солженицын, 2006 : 339).
Конечно, не совсем вино, но алкогольный коктейль из спирта и какао:
«Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырем, а потом закрашен сгущенным какао. Это была коричневая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась» ( Солженицын, 2006 : 338).
Как бы итогом травестированной Вечери, предвозвещающей псевдопасху, становится вывод Льва Рубина:
«— За дружбу выпили. За любовь выпили. Бессмертно и хорошо…» ( Солженицын, 2006 : 342).
Вновь возникающие размышления о литературе, об искусстве могли бы принадлежать самому писателю:
«Искусство для Кондрашева не было род занятий или раздел знаний. Искусство было для него — единственный способ жить» ( Солженицын, 2006 : 343).
Проблема искусства как «способа жить» тесно связана с пасхальной идеей бессмертия. Протопресвитер А. Д. Шмеман, высоко оценивавший творчество А. И. Солженицына, писал о Таинстве Евхаристии: «В Святых Дарах мы опознаем Святое Тело и Кровь Христову, жертву, принесенную Христом "о всех и за вся", в причастии же принимаем ее с верой, надеждой и любовью в единстве со Христом, с Его жизнью, Его царством…» [Шмеман: 293]. Профанная Евхаристия едва не заканчивается всеобщей ссорой, но надежду на будущее воскресение, на будущее освобождение дает арестантам новелла «Улыбка Будды».
Роман А. И. Солженицына «В круге первом» концентрируется на нарушении культурных и литературных традиций. Примечательно, что Глеб в своем юбилейном тосте произносит такие слова:
«Друзья мои! Простите, я нарушу традицию!» ( Солженицын, 2006 : 339).
Вообще, юбилей в контексте иудео-христианской символики романа не может не обратить на себя особого исследовательского внимания. В романе есть два главных юбиляра — Иосиф Виссарионович Сталин и Глеб Нержин. С Глебом Нержиным, как с благоразумным разбойником или Христом, ассоциируется важная для Солженицына идея покаяния. Юбилей в переводе с древнееврейского означает «бараний рог», под юбилеем в древние времена подразумевался «год свободы».
В Пятикнижии Моисеевом читаем:
«…и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей <…>. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле <…> ибо это юбилей: священным да будет он для вас…» (Лев. 25:10–12).
Юбилей — это празднование свободы. И если Глеб, находясь в тюрьме, свободен, то Сталин, пребывая на воле, оказывается пленником, уставшим от бремени абсолютной власти:
«…он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными), уже редеющими (изображали густыми) волосами…» ( Солженицын, 2006 : 86).
Роман А. И. Солженицына с точки зрения художественной методологии может быть отнесен к христианскому реализму: включение текста в это направление обусловлено пасхальной поэтикой писателя, пасхальным мотивно-образным комплексом в различных произведениях, а также многочисленным использованием библейской символики. Пасхальность в романе А. И. Солженицына оборачивается псевдопасхаль-ным смыслом.
Псевдопасхальность жертвы Глеба Нержина и этапируемых арестантов связана с неясностью их будущей судьбы: если в трагедии Христа все роли уже давно разыграны, заранее известен ее оптимистический пафос, то судьба Глеба и Голгофа Иннокентия неопределенны: «Жертва Иннокентия Володина не может быть сравнима с крестными муками и жертвою Христа, последняя единична и уникальна. Но в жизни каждого человека есть свой крест, свои выборы и своя Голгофа. Это путь покаяния, внутреннего изменения и роста, возможный в любой ситуации, отверзший двери рая благочестивому разбойнику, или же путь той предельной замкнутости в себе и слепоты, как у разбойника неблагочестивого» [Форсстедт: 646]. На Голгофе было три креста, что означает свободную волю человека, его возможность делать выбор. Иннокентий сделал свой выбор. Стремясь узнать больше о своем прошлом, о своих корнях, обрести национальную идентичность, он обретает живую Россию в деревне Рождество посреди окружающего его советского кладбища.
Актуализация пасхального архетипа и культурно-исторической памяти в творчестве А. И. Солженицына сопряжена с движением от пасхального рассказа к пасхальному роману, подчинена особой поэтической логике, где идея Пасхи находит наиболее полное и глубокое смысловое и символическое выражение. Восстановление разорванной связи с русской православной традицией и традициями, заложенными русскими классиками, является наиболее важной эстетической и этической задачей писателя. Можно с уверенностью утверждать, что в романе «В круге первом» данную задачу А. И. Солженицын выполнил в полной мере. Роман включается в диалог как с русской духовной культурой, так и с русской классической литературой: произведениями А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и других писателей XIX в. Роман оказывается на диалогическом перекрестке различных культурных традиций, превращаясь в своеобразный литературный ансамбль, сочетающий в себе масштаб и внимание к деталям. Неслучайно некоторыми исследователями роман определялся как полифонический, ведь в нем реализованы не только карнавально-мистерийное пространство, в рамках которого герои-идеологи вступают в диалогические отношения, но и полифоническая организация художественного текста. Мы приходим к выводу, что жанр романа «В круге первом» может быть определен как пасхальный.