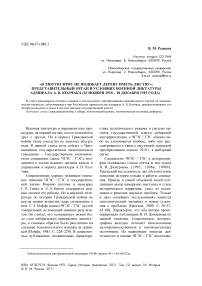«В лютую зиму не подобает дереву иметь листву»: представительный орган в условиях военной диктатуры адмирала А. В. Колчака (23 ноября 1918 - 18 декабря 1919 года)
Автор: Рынков Вадим Маркович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена история создания и последующего преобразования совещательного органа по экономическим вопросам, действовавшего при Российском правительстве адмирала А. В. Колчака, проанализированы его историческая роль и место в системе органов государственной власти.
Гражданская война, сибирь, политический режим, экономическая политика, реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737397
IDR: 14737397 | УДК: 94(47)
Текст научной статьи «В лютую зиму не подобает дереву иметь листву»: представительный орган в условиях военной диктатуры адмирала А. В. Колчака (23 ноября 1918 - 18 декабря 1919 года)
Военная диктатура и парламентские процедуры, на первый взгляд, плохо сочетаются друг с другом. Но в период Гражданской войны такое соседство не казалось абсурдным. В данной статье речь пойдет о Чрезвычайном государственном экономическом совещании – Государственном экономическом совещании (далее ЧГЭС / ГЭС), входившем в состав высших органов власти и управления в период диктатуры А. В. Колчака.
Современники хорошо понимали огромное значение ЧГЭС / ГЭС в государственной жизни. Именно поэтому в мемуарах Г. К. Гинса и Л. А. Кроля содержатся первые оценки его работы. Но в научной литературе по истории Гражданской войны не всегда можно встретить даже упоминание о нем. Г. З. Иоффе назвал ЧГЭС / ГЭС пустой говорильней, не имевшей никаких результатов. Он считал, что «совещание» нужно было «для либерального прикрытия» диктатуры, а главным образом было рассчитано на создание положительного имиджа за границей [Иоффе, 1983. С. 228–229]. В современных публикациях, посвященных характери- стике политического режима и системе органов государственной власти сибирской контрреволюции, о ЧГЭС / ГЭС обычно либо не упоминается вообще, либо оно рассматривается в связи с неудачной попыткой преобразования осенью 1919 г. в выборный орган.
Специально ЧГЭС / ГЭС в историографии посвящены только статья и два тезиса Н. И. Дмитриева [1995; 1996а; 1996б]. Уральский исследователь дал обстоятельное описание истории созыва и работы совещания. Правда, в самой объемной своей публикации автор намеренно выступил в стиле исторического нарратива, ушел от постановки и решения научных проблем. Только в двух новейших исследованиях имеются дополнительный материал и новые суждения о проблеме [Цветков, 2009. С. 50–57, 63–68]. Характерно, что оба автора проигнорировали публикации Н. И. Дмитриева по данной тематике. Современную историографию выгодно отличает использование делопроизводственных и законодательных источников. Но важнейшие эпизоды деятельности и оценки ЧГЭС / ГЭС исследова-
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00222а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 10: История © В. М. Рынков, 2011
тели воспроизвели на основе мемуарных произведений. При этом они игнорируют то обстоятельство, что мемуары полны сознательных или невольных искажений, недомолвок, а личные амбиции мемуаристов в значительной мере определяли оценки событий.
Давно назрела необходимость четко вписать ЧГЭС / ГЭС в систему органов государственной власти сибирской контрреволюции, оценить достоверность и информационный потенциал источников, различных по видовой принадлежности, ведомственному и идеологическому происхождению.
Вопрос о создании ЧГЭС был вынесен на обсуждение Совета министров 21 ноября 1918 г., через три дня после Государственного переворота и прихода к власти адмирала А. В. Колчака, а на следующий день, после незначительной правки Верховным правителем, утвержден качестве постановления. Корректировки состава совещания были незначительны (добавлен один представитель от кооперации), а полномочия остались прежними. В задачи ЧГЭС входила «разработка в спешном порядке экстренных мероприятий в области финансов, снабжения армии и восстановления торговопромышленного аппарата». Членами ЧГЭС по положению стали 6 министров и государственный контролер, по 3 представителя от Совета кооперативных съездов и правлений частных и кооперативных банков и 5 представителей Всероссийского совета съездов торговли и промышленности. Кроме того, председатель имел право приглашать на заседания «сведущих лиц» 1.
Совещание открыло свою работу 23 ноября 1918 г. и до 28/29 мая 1919 г. провело 41 заседание. Первые шесть прошли под председательством Верховного правителя А. В. Колчака и были посвящены рассмотрению проблем снабжения армии. Затем председательство перешло к С. Г. Феодось-еву. Следующие шесть заседаний носили очень практический характер. Обсуждалась проблема пределов вмешательства государства в хозяйственную жизнь, и работа была нацелена на выработку конкретных предложений Совету министров. Члены совещания подвергли деятельность правительства критике, причем наиболее развернуто и консо- лидированно выступали представители Всероссийского совета съездов торговли и промышленности А. А. Гаврилов, А. А. Кра-поткин, К. Н. Неклютин. Совещанием была сформирована комиссия по выработке предложений о преобразовании министерств продовольствия и снабжения. В результате обсуждения были спешно подготовлены и приняты Советом министров постановления от 10 декабря 1918 г. «Об отмене регулирования хлебной, мясной и масляной торговли» и от 20 декабря 1918 г. «Об упразднении министерств продовольствия и снабжения и об учреждении взамен них Министерства продовольствия и снабжения» 2. Эти меры отвечали интересам предпринимательских организаций, еще до прихода к власти А. В. Колчака планировавших добиться соответствующих решений от его предшественника – Временного Всероссийского правительства. Но успех предпринимателей не стоит преувеличивать. Новые законы не обозначили на практике поворота в сторону освобождения промышленности и торговли от пут государственного вмешательства. Напротив, они принципиально ничего не изменили. На местах продолжалось вмешательство военных и гражданских чиновников в деятельность кооперативных и частных предприятий, широкое применение реквизиций.
С 12 декабря 1918 г. совещание перешло к следующему этапу своей работы, приступив к заслушиванию и обсуждению докладов о работе отдельных министерств и ведомств. Докладчики готовились очень тщательно, порой представляя обширные аналитические тексты с множеством статистических выкладок. Прозвучали доклады о работе транспорта, финансовом положении, деятельности Государственного банка, денежном обращении, податном деле и реформе налогообложения, о сахарной и кожевенной монополиях. В этот период наметился отход от практицизма первых дней. Присутствовавшие выясняли подробности, выступали с репликами и развернутыми оценками, но не сформулировали ни одного конкретного предложения. В некоторых случаях, как, например, в ходе обсуждения доклада товарища министра финансов И. Н. Хроновского о податном деле,
2 Правительственный вестник. 1918. 14 дек.; 1919.
11 янв.
совещание углубилось в сугубо теоретические вопросы об основаниях будущих реформ.
Н. И. Дмитриев отметил, что уже во второй половине февраля 1919 г. отношения А. В. Колчака к ЧГЭС ухудшились. По его утверждению, Верховный правитель, получив от совещания рекомендации по выходу из тяжелого финансового положения, утвердился в бесполезности созванной им ранее «говорильни». Ставка была сделана на другой, чисто бюрократический орган – Комитет экономической политики, который возглавил министр земледелия Н. И. Петров. Отныне именно он должен был заниматься выработкой стратегии экономического развития. Возникла необходимость разграничить полномочия ЧГЭС и комитета. Между тем члены ЧГЭС и его председатель хотели сохранить преимущественное влияние предпринимателей на верховную власть и не желали перемен. А. В. Колчак был вынужден призвать к руководству совещанием нового человека – Г. К. Гинса, возложив на него преобразование совещания из чрезвычайного в орган планомерного рассмотрения вопросов финансово-экономического характера и кардинальное расширение состава совещания за счет увеличения представительства от общественных организаций и органов местного самоуправления. Никаких документальных доказательств своей концепции автор не привел. Привлекая делопроизводственные документы, концептуальную сторону истории ЧГЭС / ГЭС и его взаимоотношений с Верховным правителем и Советом министров Н. И. Дмитриев воспроизвел в интерпретации Г. К. Гинса, подчас путем обильного цитирования.
Г. К. Гинс действительно поведал, будто весной 1919 г. сложилось противостояние между сторонниками создания широкого представительного органа с законосовещательными правами, к которым он причислял себя, и теми, кто стремился к организации узкого закрытого совещательного учреждения при Верховном правителе. Стремление автора преувеличить свою роль в преобразовании совещания очевидно, но сделал он это аккуратно, не входя в явное противоречие с фактами [Гинс, 2007. С. 413]. Но и мемуары Г. К. Гинса были Н. И Дмитриевым проинтерпретированы достаточно вольно. В частности, мемуарист нигде не противо- поставлял ЧГЭС Комитету экономической политики.
Между тем к февралю 1919 г. совещание выполнило свою первоначальную программу, и стали непонятны цели его дальнейшего существования и деятельности. Совещание рисковало утонуть в обсуждении проблем стратегии развития народного хозяйства после победы над большевиками, далеких от чрезвычайных, поставленных перед ним Верховным правителем. С каждым заседанием это становилось все более очевидно участникам, поэтому дискуссия о перспективах дальнейшей работы развернулась на самом совещании. Еще 13 февраля 1919 г. представители кооперативных организаций внесли предложение о преобразовании ЧГЭС в Экономический совет, по структуре и полномочиям напоминавший аналогичный орган при Временном правительстве в 1917 г. 3 Семнадцатого и 22 февраля 1919 г. совещание обсуждало проект своего собственного реформирования. После длительных согласований в ходе частных встреч 12 марта ЧГЭС собралось на пленарное заседание. На этот раз пришли к консенсусу. Именно тогда решено было исключить слово «чрезвычайное» из названия совещания.
Под председательством Г. К. Гинса, утвержденного в этой должности 9 апреля 1919 г., совещание собралось в апреле еще дважды для обсуждения законопроектов об изъятии из обращения «керенок» и о комитете по внешней торговле. Третье заседание состоялось 1 мая 1919 г. и не было связано с конкретными законодательными инициативами правительства. Новый председатель посвятил его обсуждению двух докладов о финансовом положении. Именно на этом заседании утвердили окончательный текст положения о ГЭС, внесенный на следующий день Г. Г. Тельбергом на обсуждение Совета министров. Для членов совещания данный вопрос считался уже в целом решенным и не вызвал дискуссий. Итак, баталии вокруг полномочий и состава совещания отгремели до прихода Г. К. Гинса к руководству им, а сам он, заняв кресло председателя, сделал акцент на обсуждении совершенно других проблем. Второго мая 1919 г. Совет министров утвердил Положение о ГЭС 4. В него была внесена лишь одна важная поправка – председатель обязательно должен был оставаться членом Совета министров.
Место нового органа в государственном аппарате оказалось принципиально иным. Полномочия ГЭС простирались на более широкий круг вопросов, причем, перечень не был завершенным, что позволяло обсуждать и иные вопросы экономической жизни. Совещание получило право рассматривать роспись государственных доходов и расходов. Наконец, оно должно было обсуждать законопроекты, касавшиеся круга его ведения и выносить свое суждение по ним председателю Совета министров. Совещание имело право обращаться непосредственно к Верховному правителю. Все это очень напоминало полномочия Государственного совета до преобразований 1906 г. Характер представительства оказался, наоборот, близок к уже реформированному Государственному совету. Здесь законодатели попытались совместить четыре различных принципа формирования. Как и для ЧГЭС, закон предусматривал членство по должности. На этот раз число министров – членов ГЭС возросло до одиннадцати (считая государственного контролера), к ним прибавился начальник штаба Верховного главнокомандующего. Одновременно предусматривалось корпоративное представительство, т. е. указывался круг организаций, получивших определенные квоты на выдвижение: Всероссийский совет съездов торговли и промышленности (5), Совет всесибирских кооперативных съездов (5), центральные профессиональные организации (2), частные банки (2) и Московский народный банк (1), сельскохозяйственные общества (2), Центральный военно-промышленный комитет (1), Общество сибирских инженеров (2), самоуправления казачьих войск (4). Как видно, теперь перечень корпораций стал шире, и все вместе они получили 24 места. Кроме того, губернским / областным земским управам и городским думам городов – губернских / областных центров, предоставили право выдвигать кандидатов в члены ГЭС. Верховный правитель мог назначить из их списка до 20 членов. Если бы не это правило, 16 административных единиц, находившихся под контролем Российского правительства в конце весны 1919 г., вместе выдвинули бы в ГЭС 32 члена. Военные успехи сулили бы только увеличение числа выдвиженцев от земств и городов, позволяя рассчитывать им на преобладание над другими членами. Данное ограничение не только свело на нет их надежды, но и являлось несправедливым по существу. Оно допускало, что одна губерния была представлена в ГЭС двумя членами, а у другой не было ни одного. Наконец, Положение давало право Верховному правителю по представлению председателя назначить членом совещания любое иное лицо.
ГЭС приступило к работе 19 июня 1919 г. и до 18 декабря 1919 г. провело 37 заседаний. Лишь некоторые общественные организации, земства и городские управы успели сделать соответствующие выдвижения кандидатов и назначения. Профессиональные союзы вообще отказались от своего права выдвинуть двух членов ГЭС. К первым заседаниям состав совещания был далеко не полным. А. В. Колчак активно занимался назначением новых членов. Причем меньшая часть получивших статус члена ГЭС являлась выдвиженцами земских и городских органов самоуправления. Член ГЭС, левый кадет Л. А. Кроль, подметил, что среди назначенцев А. В. Колчака оказались видные ученые, известные своим оппозиционным настроем [Кроль, 1922. С. 179– 180]. Добавим, что еще больше выделялись две другие категории: во-первых, отправленные в отставку министры и высокопоставленные чиновники Российского правительства и, во-вторых, общественные деятели, в том числе, бывшие государственные служащие царской администрации, прибывавшие из европейской части страны. Верховному правителю важен был их административный опыт. Он старался также сделать состав ГЭС менее «сибирским».
ГЭС уделило гораздо больше внимания процедурным моментам и организации своего делопроизводства. Со второго заседания оно занялось составлением регламента работы, который был оформлен в виде «Наказа», утвержденного частями 23 и 26 июня 1919 г. 5 У совещания появилась собственная канцелярия, насчитывавшая 26 штатных единиц. Интересно, что выступивший на втором заседании с докладом о работе Комитета по экономической политике министр земледелия Н. И. Петров вскоре предложил
Г. К. Гинсу создать единое для комитета и совещания управление делами, аргументируя это общими задачами и профилем работы 6. И сделано это было по решению Совета министров от 2 мая 1919 г. 7 Последнее лишний раз доказывает, что Комитет экономической политики задумывался не как противовес совещанию. Они должны были дополнять друг друга.
С первых же заседаний началось формирование комиссий, в которых со временем предполагалось сосредоточить всю техническую работу. С 26 июня по 28 июля 1919 г. утвердили состав постоянных комиссий: земельной, бюджетной, торгово-промышленной, финансовой, по делам призрения, по санитарному состоянию фронта и тыла, транспортной, по продовольствию и снабжению армии, по рабочему вопросу. Еще ряд комиссий специально занимался обсуждением отдельных законопроектов: о повышении предельных цен на вино и спирт, о борьбе со спекуляцией, продлении действия ст. 23 Закона о введении земств в Архангельской губернии и в Сибири, об институте сельского хозяйства и промышленности, институте исследования Сибири; Политехническом институте в г. Владивосток. В каждую комиссию выдвинули по 7–9 человек. С середины июля на пленарном заседании поступившие из министерств и главных управлений законопроекты распределялись для обсуждения в соответствующие комиссии. Именно там и происходили основные прения, а на утверждение пленарного заседания через несколько дней поступала рекомендация комиссии, которая, если не возникало спорных вопросов, принималась.
Но главной проблемой, которой справедливо много внимания уделил Н. И. Дмитриев, стал недостаток людей. Многие члены не утруждали себя посещением заседаний, другие появлялись изредка. Одновременно присутствовало обычно чуть более тридцати человек. Получалось, что в среднем каждый член совещания должен был заседать минимум в трех-четырех комиссиях. Совещанию неоднократно приходилось исключать «мертвые души» из состава комиссий и дополнять его активно работавшими участниками. Потом начали исключать «прогульщиков» из состава ГЭС. Вместе с тем квалификация некоторых членов комиссии оказалась высокой. Например, двое из членов финансовой комиссии в дальнейшем последовательно занимали посты министра финансов. Вскоре у большинства комиссий образовалось собственное делопроизводство. На их заседаниях не только корректировались законопроекты, но и обсуждались доклады, выступали приглашенные члены правительства. Предметным и конструктивным оказалось участие в ГЭС отставных высокопоставленных чиновников, профессионально владевших обсуждаемым материалом, настроенных обычно критически, но не оппозиционно.
Для формирования более полного представления о ситуации в различных отраслях экономики в комиссиях или на пленарных заседаниях часто заслушивались развернутые доклады руководителей ведомств. Комиссии также отчитывались на пленарном заседании о своей работе, представляя заключение о состоянии дел и результативности работы правительства. Прошедшие через совещание законопроекты получали всестороннюю оценку, предложения о поправках были тщательно мотивированы и, как правило, принимались во внимание самими министерствами. Многие законопроекты экономического характера с этого времени Совет министров утверждал именно в редакции, предложенной ГЭС. Постепенно накапливался опыт как работы внутри ГЭС, так и его взаимодействия с правительством.
Катастрофа на фронте внесла двусмысленность в деятельность совещания. Совет министров все аккуратнее отсылал для обсуждения свои законопроекты, и работа ГЭС становилась все более рутинной. И это в то время, когда фронт подкатывался к Омску, а члены ГЭС буквально разбегались, повально подавая заявления об отпуске, и в комиссиях некому было заседать. Наконец, чрезвычайная обстановка отступления, почти бегства армии с фронта ставила на повестку дня задачу немедленной мобилизации ресурсов на организацию сопротивления и эвакуации. Неторопливый стиль работы совещания, нацеленный на всесторонний анализ поступавших материалов, не удовлетворял ситуации, требовавшей от власти молниеносной реакции. Некоторые законопроекты, дойдя в совещании до стадии утверждения, уже теряли свою актуальность. Очевидно, что осенью 1919 г. ГЭС превратилось в излишнее звено государственного аппарата.
Но вопреки всему этому именно тогда активизировалось обсуждение планов очередного реформирования ГЭС. В июле 19 членов совещания в рамках частных встреч подготовили А. В. Колчаку записку с предложением преобразовать ГЭС в Государственное совещание с правом высшего законосовещательного органа по всем вопросам законодательства и государственного управления. Совет министров предполагали лишить законодательных прав, а Верховному правителю предоставить полномочия утверждать или отклонять предложенные совещанием проекты [Кроль, 1922. С. 182; Цветков, 2009. С. 56]. Это означало бы смену модели государственного устройства. В августе в ГЭС действовала неофициальная комиссия по составлению проекта Положения о Государственном совещании. Но Совет министров выступал в пользу преобразования ГЭС за счет расширения представительства от органов самоуправления и общественных организаций и сохранения своих законодательных полномочий. А. В. Колчак согласился с этим вариантом. Шестнадцатого сентября 1919 г. он издал Грамоту, поручив Совету министров подготовить соответствующее законоположение 8. Пятого ноября 1919 г. были приняты разработанные Советом министров положения о Государственном земском совещании и о выборах в него. Они предусматривали создание совершенно нового органа, состав которого формировался сложным путем, объединявшим, как и раньше, выдвижение от общественных организаций, выборы от органов местного самоуправления и назначения Верховным правителем. Полномочия ГЭС прекращались с момента начала работы Государственного земского совещания.
Двадцать девятого октября 1919 г. Верховный правитель подписал указ о перерыве работ ГЭС в связи с эвакуацией 9. В Иркутске с 8 до 18 декабря удалось провести три заседания, возобновили работу комиссии: финансовая, бюджетная и по снабжению армии. Выступавшие допускали резко оппозиционные высказывания в адрес правительства, по-видимому, сильно смягченные в протоколе [Вологодский, 2006. С. 220].
Заседание, назначенное на 22 декабря 1919 г., уже не состоялось. В Иркутске было неспокойно, и через несколько дней началось вооруженное антиколчаковское восстание.
ЧГЭС / ГЭС возникло в первые его дни и прекратило свою работу почти одновременно с падением власти А. В. Колчака. За год дважды его пытались реформировать, меняя статус, характер работы и полномочия, а вопросы о его преобразовании и деятельности всегда находились в центре внимания политических лидеров и общественности. Совещание задумывалось как одна из подпорок политического режима, но его формальный статус и реальное место в структуре органов власти неоднократно изменялись. В первые недели своего существования оно выступало в роли стратегического центра разработки хозяйственного курса, но к началу 1919 г. быстро утратило ее. Только в декабре 1918 г. ЧГЭС ненадолго удалось оказать решающее влияние на экономическую политику Российского правительства. В апреле 1919 г. совещание трансформировалось в орган, призванный скорректировать и уточнить некоторые (далеко не все) законопроекты, касавшиеся экономической сферы, и олицетворявший их общественную поддержку. Лишь с принятием Положения о ГЭС от 2 мая 1919 г. законосовещательная функция совещания была нормативно прописана, что превратило его в важнейшую инстанцию законотворческого процесса. Отныне оно осуществляло экспертизу и редактирование законопроектов для Совета министров, но принципиального влияния на выработку курса экономической политики не оказывало. ГЭС превратилось в орган скорее технической помощи Совету министров, чем общественной экспертизы. Очевидно, что процесс реформирования совещания оказался запоздалым. Он назрел уже в феврале 1919 г., растянулся до мая-июня, а полноценная работа обновленного совещания началась в июле-августе, когда стремительное отступление армии делало его работу вновь совершенно излишней. Недаром второй состав совещания не выдвинул ни одной экономической инициативы, хотя и прославился участием в политических интригах.
Не будучи наделено законодательными функциями, ЧГЭС / ГЭС с первых до последних дней своего существования призва- но было олицетворять институционализацию взаимосвязи государственной власти и общественности. В этом смысле оно являлось квазипредставительным учреждением, так как не выражало интересы населения, которое, в свою очередь, никак не влияло на его состав и работу. Роль ГЭС/ЧГЭС в терминах своего времени соответствовала «Предпарламенту». Мировая и российская практика свидетельствует, что такие органы никогда не наделяются законодательными полномочиями. Они не принимают решений, но могут их готовить или корректировать. Более того, существование подобных органов, с одной стороны, совершенно не противоречит непарламентскому строю (диктатуре или монархии), а с другой – появление парламента не делает квазипред-ставительное учреждение лишним и ненужным. Стремление общественности и либерального крыла Российского правительства к преобразованию ЧГЭС / ГЭС в настоящий парламент противоречило природе данного органа. Кроме того, попытки подобных реформ в 1919 г. оказались несвоевременными в силу характера переживаемых событий Гражданской войны. Именно эту мыcль образно выразил член ГЭС В. А. Виноградов в той фразе, которая вынесена в заглавие статьи [Гинс, 2007. С. 422]. Рассуждения современников и историков о том, что А. В. Колчак, блокируя парламентские реформы, упустил шанс укрепить свой режим, лишены серьезных оснований.