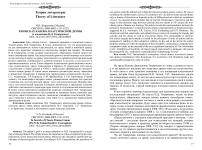В поисках канона классической драмы (о концепции Н.Д. Тамарченко)
Автор: Кириленко Наталья Натановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель автора статьи - привлечь внимание к концепции классической драмы Н.Д. Тамарченко. В статье доказывается, что эта концепция важна для понимания не только классической, но также новой и новейшей драмы; более того, проясняет значимость классических жанров как таковых. По мысли Н.Д. Тамарченко, только на фоне классических, образцовых жанров можно выявить своеобразие новых. Под классической драмой ученый понимал не исключительно античную драму, не драму классицизма и не драматические произведения разных периодов, считающиеся к данному моменту классикой, а классическую в противоположность новой. Таким образом, классическая драма включает античную, ренессансную, драму классицизма и барокко. В переходный этап между классической и новой драмой в XVIII в. происходило формирование неклассического жанра драмы. В статье также выявлено соответствие между периодами в концепции Тамарченко и вариантами периодизации исторической поэтики у С.С. Аверинцева, Э.Р. Курциуса, О.М. Фрейденберг и С.Н. Бройтмана. Ученый доказал, что катастрофа и катарсис имеют универсальное значение для трагедии и комедии, как для классической драмы, так и для неклассической. Искомая общность для классической трагедии и комедии заключалась в принципах единства действия и неизменности характера героя, взятых в их органической взаимосвязи. В конце статьи намечаются направления развития концепции Н.Д. Тамарченко: проведение сопоставительного исследования на материале самых значимых драматургов «аристотелевского цикла»; выявление специфики классической трагедии и комедии в аспектах диалога, типа героя и т.д.; проведение периодизации драматургии в целом.
Концепция н.д. тамарченко, классическая драма, неклассическая драма, новая драма, периодизация, м.с. кургинян, с.с. аверинцев, с.н. бройтман, готовый и неизменный герой, единство действия
Короткий адрес: https://sciup.org/149127075
IDR: 149127075 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00035
Текст научной статьи В поисках канона классической драмы (о концепции Н.Д. Тамарченко)
Kew words: N.D. Tamarchenko’s conception; classic drama; non-classic drama; new drama; periodization; M.S. Kurginyan; S.S. Averintzev; S.N. Broitman; ready and unchangeable protagonist; unity of action.
На труды Натана Давидовича Тамарченко по эпике ссылаются часто; в то же время его наследие как теоретика драмы известно недостаточно. В этой статье я хочу привлечь внимание к его концепции классической драмы, которая была поддержана В.И. Тюпой, С.П. Лавлинским, рядом его кемеровских коллег, но все же мало используется при изучении и исследовании драмы. Между тем она важна и для понимания новой и новейшей драмы; более того, проясняет значимость классических жанров как таковых. В сущности, ученый занимался поисками канона классической драмы.
В чем основное значение классических или канонических жанров для последующей литературы? По мысли Н.Д. Тамарченко, только на фоне классических, образцовых жанров можно выявить своеобразие новых: «Предшествующие жанровые системы, а также и сами жанры, составляющие классическую традицию, будут иметь при этом значение фона, на котором только и можно выявить своеобразие драматических жанров нового типа» [Теория литературных жанров 2008, 294]. (Я ссылаюсь на рукопись «Теории литературных жанров» 2008 г, т.к. в одноименном учебнике для бакалавриата 2011 г. представлена редуцированная версия данного текста).
«Представление о структуре классической трагедии и комедии, - считал ученый, - послужит фоном для осмысления тех новаций, которые были внесены в теорию и практику драмы во вторую половину XVIII в.» [Теория литературных жанров 2008, 332]. Он говорил о драматических жанрах, но это правило распространяется и на соотношение других классических жанров и приходящих им на смену.
Что же Тамарченко понимал под классической драмой? Не исключительно античную драму, не драму классицизма и не драматические про- изведения разных периодов, считающиеся к данному моменту классикой, а классическую в противоположность новой. Повторюсь: не драма классицизма и не классика драматургии! (Разграничение этих видов драмы сформулировано Н.Д. Тамарченко в главах «Драма» и «Классическая и не-классическая драма» в «Теории литературы» [Теория литературы 2004,1, 305; 408-431] и, более подробно, в главе «Теории литературных жанров», которая так и называется «Классическая драма» [Теория литературных жанров 2008, 295-332]). Согласно данному пониманию, «исторические различия между классической и неклассической или “новой” драмой (разделяющий их рубеж - XVIII век) важны в не меньшей степени, чем разница между эпопеей и романом» [Теория литературы 2004,1, 305]. Ученый подчеркивал, что если не учитывать эти исторические различия и применять к драматургии XIX-XX вв. ту же художественную логику, на которой строилась драма древности, Средневековья и эпохи классицизма, то это приводит к неадекватным трактовкам [Теория литературы 2004,1, 305]. В качестве примера такой трактовки и поисков в пьесе любого периода «закона борьбы <...> друг с другом персонажей-антагонистов» [Теория литературы 2004,1, 305] ученый приводит цитату из очень известной книги В.М. Волькенштейна «Драматургия»: «...нелегко установить две группы в пьесах со слабо развитым внешним и вялым внутренним действием. Так, например, в “Вишневом саде” Чехова идет сложная борьба за вишневый сад, которым хочет завладеть Лопахин. Лаской и дружественной беседой хозяева пытаются отстоять свое гнездо; в последнем действии пытаются свести Лопахина с Варей, чтобы не порвать связи с вишневым садом; но ничего не помогает. Лопахин не поддается на соблазн - жениться на Варе. Сад утрачен бесповоротно <.. > У Чехова действуют и борются люди деликатные, сдержанные, скрытные, ласковые» (цитата сокращена мной -Н.К?) [Волькенштейн 1929, 24].
Классическое противопоставляется ученым неклассическому следующим образом: «Понятие “классический” по отношению к художественному творчеству всегда предполагает “образцовый” характер созданных произведений. В данном случае имеется в виду еще и сознательная ориентация на образцы, которые созданы в предшествующей истории искусства» [Теория литературных жанров 2008, 295].
Что же выступает в качестве образца? В первую очередь это античные произведения, поскольку, как писал Тамарченко, «античное искусство, с точки зрения теоретиков и практиков драматургии XVI - первой половины XVIII вв., наиболее адекватно воспроизводило вечные первообразы («эй-досы») трагедии и комедии» [Теория литературных жанров 2008, 295].
Во-вторых, это произведения тех литературных этапов, для которых характерна, как сказано выше, сознательная ориентация на античные образцы;
«...наши представления о жанрах и особенно о жанровой системе классической драмы могут и должны опираться на литературное самосознание всего
(здесь ученый приводит выдержки из статьи С.С. Аверинцева «Категории поэтики в смене литературных эпох» - Н.К.) “периода Возрождения, классицизма, барокко”, который в целом “можно рассматривать как переходный”. Действительно, в эту большую эпоху подвергается рефлексии все предшествующее развитие литературы и одновременно создается почва для её радикального обновления на рубеже XVIII-XIX вв. <...> Прежде всего “сам принцип традиции впервые осмысливается как таковой”; далее “в целом на первый план выдвигается категория ЖАНРА” и, наконец, создается “единая жанровая система, пришедшая на смену многосистемности или даже несистемности средневековых межжанровых отношений”» [Теория литературных жанров 2008, 295]. С выдержками из следующей книги: [Гринцер 1994, 32]; оформление сохранено.
Вот почему необходимо «учитывать глубокие и принципиально важные различия в структуре драматических произведений, созданных до и после второй половины XVIII в.». По мысли ученого, «в литературе XIX-XX вв. “новые” комедия и трагедия соотносятся друг с другом иначе, нежели классические образцы аналогичных жанров, сложившихся и развивавшихся в период так называемого “рефлективного традиционализма” (С. С. Аверинцев). Классическая драма, как и все искусство “рефлективного традиционализма”, ориентирована на первообраз или “эйдос”, частным случаем которого являются жанровые каноны» [Теория литературных жанров 2008, 294]. (Принципы классической трагедии и комедии сформулированы в «Теории литературных жанров» отдельно, В.И. Тюпой и Н.Д. Тамарченко соответственно.)
Таким образом, Тамарченко констатировал, что к классической драме «в одинаковой мере относится драматургия Шекспира и Кальдерона, с одной стороны; Мольера и Корнеля или Расина, с другой» [Теория литературных жанров 2008, 296].
В сущности, согласно концепции ученого, не только классическая, но и новая драма (я добавлю, в перспективе и новейшая) представляют собой периоды, включающие несколько этапов; так, классическая, как сказано выше, содержит в себе античную, ренессансную, драму классицизма и барокко. Между этими периодами существуют переходные этапы; в один из таких этапов между классической и новой драмой в XVIII в. происходило формирование неклассического жанра драмы и, более того, новой «родовой основы» разных жанров [Теория литературных жанров 2008, 332-364]. Здесь ученый опирался на мнение одного из самых глубоких отечественных теоретиков драмы М.С. Кургинян: «Правда, и трагедия и комедия занимают в драматургии Просвещения немалое место <...> Но новаторство этой эпохи заключается главным образом не в обновлении и развитии старых жанровых структур, а в формировании нового жанра, который был так необходим в данной исторической ситуации, что даже в тех произведениях, которые формально сохраняли комедийную или трагедийную основу, происходило как бы “прорастание” новой структуры сквозь старую» [Кургинян 1964, 296]. Об этом также см. у С.П. Лавлинского, опирающегося на концепцию Н.Д. Тамарченко [Лавлинский 2013, 14-15]. Кургинян подчеркивала закономерность того факта, что «все драматурги Просвещения были вместе с тем и теоретиками драмы» [Кургинян 1964, 296].
Такое объединение историко-литературных этапов в большие периоды, в том числе представление о классической драме как периоде, включающем несколько этапов, не всем кажется допустимым («генерализующий подход к классической драме», как назвала это явление В.Б. Зусева-Озкан, специалист по метароману).
Однако, обратившись к вариантам периодизации исторической поэтики, под которыми С.Н. Бройтман подразумевал «выявление больших стадий или исторических типов художественных целостностей» [Теория литературы 2004, II, 12], мы видим полное соответствие между периодами в концепции Тамарченко и у классиков исторической поэтики.
Прежде всего, его представление о классической драме как периоде соотносится с тем, что Аверинцев писал об аристотелевском цикле, в который ученый включал два периода, дорефлективный традиционализм и рефлективный традиционализм; он также полагал, что традиционализм обоих периодов полностью сменился именно к концу XVIII в. Аверинцев подчеркивал, что различие между «аристотелевским» циклом и антитрадиционализмом в литературе - «явление иного порядка, чем различие между сколь угодно контрастирующими эпохами, как то, между античностью и средневековьем или средневековьем и Ренессансом. Перед лицом глубины этого различия те контрасты необходимо выявляют известное родство - родство в рамках “аристотелевского” цикла» [Аверинцев 1981, 7-8] (курсив мой - Н.К.).
То же разграничение видим у Эрнста Р. Курциуса. Риторический период охватывает «26 веков европейской литературы от Гомера до Гете» и «характеризуется единством художественных принципов, обусловленных культурой риторики с ее поэтикой “топосов” - общих мест» [цит. по: Теория литературы 2004, II, 12], а с XVIII в. начинается новая стадия в истории поэтики, связанная с преодолением риторической культуры.
Сходна с этой позицией и точка зрения О.М. Фрейденберг: «можно сказать, что он (т.е. весь период до XIX в. -Н.К.) целиком характеризуется традиционализмом, который выражается в том, что произведение строится на готовом жанровом и сюжетном материале» [Фрейденберг 1997,288].
Наконец, именно XVIII в. считал границей С.Н. Бройтман; он называл этот период до середины XVIII в. в Европе «эйдетической поэтикой», приводя другие названия: эпоха поэзии, рефлексивного традиционализма, традиционалистская, нормативная, риторическая - в противовес «поэтике художественной модальности» (эпоха прозы, неканоническая, нетрадиционалистская, историческая, индивидуально-творческая).
Каковы же черты, присущие классической драме? Что здесь общего с новой и что отличается?
Тамарченко полагал, что катастрофа и катарсис «имеют универсаль- ное значение: применимы и к трагедии, и к комедии; равно важны и для классической драмы, и для неклассической» [Теория литературы 2004, I, 311].
Как пример применимости этих понятий к новой драме ученый приводил катастрофу и катарсис в «Вишневом саде»: «тут и ожидание “обвала дома”, и “принесение жертвы” (забытый в доме Фире), и переживание “несчастья”, связанного с “волей” (чувством освобождения от прошлого)» [Теория литературы 2004,1, 311].
Искомая общность для классической трагедии и комедии «заключалась в принципах единства действия и неизменности характера героя (в их органической взаимосвязи)» [Теория литературных жанров 2008, 296], которые в главе о классической комедии Тамарченко показал на примере «Много шума из ничего» Шекспира и «Скупого» Мольера. (Я очень кратко приведу только некоторые его положения по комедии Шекспира.)
Неизменность и самотождественность персонажей здесь, по мнению ученого, очевидна. Во-первых, поскольку и характеры персонажей, и их позиции и взаимоотношения (антагонизм Дона Педро и Дона Хуана, дружба Клавдио и Бенедикта и т.д.) сложились до начала действия.
Во-вторых, поступки персонажей не являются результатом выбора, они не самоопределяются на наших глазах, а действуют в соответствии со своими, как говорилось выше, уже сложившимися характерами, жизненными принципами и позициями; «следовательно, персонаж - в пределах действия - со своей ролью совпадает» [Теория литературных жанров 2008, 321].
В-третьих, перемены во взаимоотношениях героев и в их поведении -переходы от любви или дружбы к вражде или наоборот (Клавдио - Теро, Бенедикт - Клавдио и принц Дон Педро, Бенедикт и Беатриче и т.п.), а также смена «подлости и лжи искренним признанием и готовностью принять возмездие (Борачио и Конрад)» - «не означают сколько-нибудь значительных внутренних изменений», а объясняются внешними обстоятельствами [Теория литературных жанров 2008, 321].
Следовательно, когда по ходу действия происходит «изменение сознания героя - его точки зрения на себя и на мир, его позиции» [Теория литературных жанров 2008, 363], а именно такому герою посвящены статьи Шиллера, о классической драме говорить уже невозможно. Ученый подчеркивал, что и «Горе от ума» принципиально отличается от классической комедии, т.к. герои Грибоедова «в финале не равны себе же в начале действия; внешний ход событий сочетается с подготовкой радикальных внутренних перемен. Таковы в ней признаки новой драмы» [Теория литературы 2004,1, 415].
В отличие от неизменности героя единство действия во «Много шума из ничего», отмечал Тамарченко, «оказывается неочевидным». Но соотношение разных линий действия (или интриг) «представляет собою не параллелизм, а последовательность. Как только одна из них кажется законченной, исчерпавшей себя, немедленно возникает новая, так что фи- нал первой оказывается мнимым» [Теория литературных жанров 2008, 320-322].
Единство действия сохраняется и благодаря тому, что две игры - затеянная принцем с целью устроить брак Бенедикта и Беатриче и задуманная его антиподом Доном Хуаном с целью расстроить свадьбу Клавдио и Геро «по своей нравственной сути <.. > противоположны, но внешним образом схожи настолько, что переходят одна в другую почти незаметно: об этом свидетельствует фигура Маргариты, которая участвует и в той, и в другой» [Теория литературных жанров 2008, 323-324].
«Схематизм комедийного сюжета у Шекспира переосмыслен: традиционный внешний облик он приобретает лишь в итоге развития событий», - констатировал Тамарченко, - «но <...> традиция все же сохранена - пусть в таком преображенном и обновленном варианте. Игра жизни восстанавливает одновременно и возникшую в древней комедии последовательность “обман-разоблачение”, и - вместе с нею - этическую определенность сюжетообразующих действий героев» [Теория литературных жанров 2008, 325].
В классической драме нет внутреннего действия, ибо оно - следствие изменения сознания героя; эти две структурные особенности (изменение сознания героя и появление внутреннего действия) взаимосвязаны, они и создают новую «родовую основу» разных жанров [Теория литературных жанров 2008, 363].
Был поставлен и вопрос об отличии диалога в классической драме от диалога в новой драме. Тамарченко полагал, что диалог в классической драме ближе к промежуточному варианту по Якубинскому [Якубин-ский 1986, 25-26] (те. обмен «тематически не пересекающимися монологами вместо “нормального” диалога» [Теория литературы 2004,1, 324]), а в новой - к крайним.
Ввиду общепризнанной значимости идей Л.П. Якубинского о монологе и диалоге для теории драмы, поясним их подробно. Крайние случаи, по мнению Якубинского, это «с одной стороны, такие бесспорные случаи монологической речи, как речь на митинге, в суде и т.п.», для которых, соответственно, «будет характерна длительность и обусловленная ею связанность <...> речевого ряда»; то, что высказывание не рассчитано на немедленную реплику; «наличие заданности, предварительного обдумывания и пр.». С другой стороны, «крайним случаем диалога является отрывистый и быстрый разговор на какие-нибудь обыденные или деловые темы». Для него будет характерен быстрый обмен краткими взаимообусловленными репликами «вне какого-нибудь предварительного обдумывания», заданности и связанности. Тут особенно важно отметить, что для диалога по Якубинскому характерно «взаимное прерывание» [Теория литературы 2004,1, 36-37]; оформление сохранено.
Специфика диалога в классической драме, по мнению Н.Д. Тамарченко, касается и такого аспекта, как сращенность слова и сюжета; «Она, по общему мнению, характерна для диалогов классической драмы. В первую очередь в ней персонажи своими репликами “откликаются на развертывание событий и влияют на их дальнейшее течение”» [Теория литературы 2004,1, 325]. Приводимую цитату см.: [Хализев 1986, 43].
Также ученый выделил две особенности диалогов, специфичных для «Скупого» Мольера: двуязычие (язык денег и язык любви) и проявленный в диалогах ряд ситуаций непонимания (курсив мой - Н.К.у
Необходимо отметить, что непонимание Тамарченко относит к мотивам, традиционным для классической комедии в целом: «взаимного намеренного или невольного непонимания: естественной или притворной глухоты, разговора на разных языках или перехода на “квазиязык’’ (замены обычного общения якобы иностранной экзотической речью, жестикуляцией и т.п.); реплик или жестов неуместных, сделанных некстати <...>; нелепых ссор, основанных на такого рода недоразумениях, и примирений и т.д.» [Теория литературы 2004,1, 417].
С такими аспектами, как изменения сознания и героя и появление внутреннего действия в новой драме, соотносится и то, что диалоги в ней могут иметь более мировоззренческий, нежели сюжетный характер [Теория литературных жанров 2008, 359].
На отечественной почве, по мнению Тамарченко, классической драмы не было; из комедий ближе к чистому варианту гоголевский «Ревизор».
Таким образом, именно на фоне основных признаков классической драмы («неизменности героя и единства действия в их органической взаимосвязи») видны и особенности драмы последующих периодов: меняющийся, самоопределяющийся герой; внутреннее действие; мировоззренческий характер диалогов; эпизация и т.д.
В поисках канона классической драмы Н.Д. Тамарченко обозначил новое направление, рассмотрел подробно классическую комедию, но многое, к сожалению, не успел. Его работа может быть продолжена, как мне видится, следующим образом:
во-первых, проведение объемного сопоставительного исследования на материале самых значимых драматургов «аристотелевского цикла», в том числе самого сложного - Кальдерона;
во-вторых, выявление специфики классической трагедии и комедии на различных уровнях: диалог; тип героя и т.д.;
в-третьих, проведение периодизации драматургии в целом, с учетом классической и неклассической, а также новой, новейшей драмы и переходного периода между последними. Такого рода периодизация должна опираться даже не на конкретных авторов, а на конкретные произведения.
Список литературы В поисках канона классической драмы (о концепции Н.Д. Тамарченко)
- Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3-14.
- Волькенштейн В.М. Драматургия. Метод исследования драматических произведений. М., 1929.
- Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / отв. ред. П.А. Гринцер. М., 1994.
- Кургинян М.С. Драма // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. М., 1964. С. 238-362.
- Лавлинский С.П. «Действие как проблема» в теории драмы // Поэтика русской драматургии рубежа XX-XXI веков. Вып. 4. М.; Кемерово, 2014. С. 9-16.
- Теория литературных жанров / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008.
- Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
- Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). М., 1986.
- Якубинский Л.П. О диалогической речи // Якубинский Л.П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986. С. 17-58.