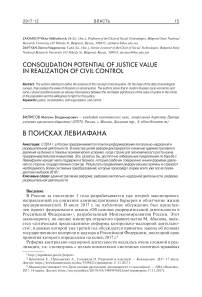В поисках левиафана
Автор: Вилисов Максим Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
С 2014 г. в России предпринимаются попытки реформирования контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. В качестве целей реформ декларируется снижение административного давления на бизнес в тяжелых экономических условиях, когда стране для экономического роста нужна предпринимательская инициатива. Эти, казалось бы, достаточно либеральные предложения по борьбе с Левиафаном находят мало поддержки в бизнесе, который озабочен совершенно иными формами давления со стороны государственных структур. Результаты продвижения реформ весьма скромны и отражают необходимость более системных преобразований, которые произойдут скорее всего уже после президентских выборов 2018 г.
Административная реформа, реформа контрольно-надзорной деятельности, реформа разрешительной деятельности
Короткий адрес: https://sciup.org/170168668
IDR: 170168668
Текст научной статьи В поисках левиафана
В России за последние 3 года разрабатывается уже второй законопроект, направленный на снижение административных барьеров и облегчение жизни предпринимателей. В июле 2017 г. на публичное обсуждение был представлен проект федерального закона «Об основах разрешительной деятельности в Российской Федерации»1, разработанный Минэкономразвития России. Этот законопроект, по оценке министра открытого правительства М. Абызова, является «логическим продолжением» реформы контрольно-надзорной деятельно-сти2, в рамках которой уже третий год обсуждается принятие закона об основах государственного контроля и надзора в Российской Федерации, последний срок принятия которого определялся на конец 2017 г.3
Реформа контрольно-надзорной деятельности оказалась очень сложной в реализации, т.к. столкнулась с целым комплексом системных политико-правовых эффектов, которые сложно преодолеть в одночасье [Вилисов 2016]. Задержки с принятием закона в данном случае представляют собой только вершину айсберга напряженной политической борьбы, которая сопровождает эту реформу. Скорее всего, законопроект о разрешительной деятельности ожидает схожая судьба – длительные согласования без принятия либо принятие в таком виде, который никаких серьезных преобразований предполагать не будет. Причины этого лежат в плоскости сложных политико-административных отношений в современной России, анализ которых и составляет предмет настоящей статьи.
Риск-ориентированные реформы
Обе реформы – разрешительной и контрольно-надзорной деятельности – действительно взаимосвязаны и очень похожи по форме проведения. У них общий предмет – административная деятельность органов исполнительной власти, связанная с осуществлением государственных полномочий и вмешательством в деятельность хозяйствующих субъектов. В обоих случаях инициатором реформ формально выступал президент – разработка соответствующих законопроектов начиналась по его инициативе1.
По сути, эти реформы являются продолжением административной реформы, которая считается незавершенной именно в части нерешенности проблем избыточности государственных функций, что наиболее заметно в сфере контроля и надзора [Клименко 2014]. Сама административная реформа, активно развернутая в 2002–2003 гг., имела масштабные цели и задачи, постановка которых была вызвана во многом объективными факторами и прежде всего – тенденцией к переходу на постиндустриальный этап цивилизационного развития, в ходе которого происходит «трансформация социальной структуры общества, требующая адекватного политического ответа» [Нисневич 2008]. Однако существует и вторая причина – это упорядочение деятельности бюрократии, чья деятельность, благодаря весьма распространенным и чрезвычайно эффективным (в части достижения узкогрупповых целей) неформальным практикам стала оказывать серьезное влияние на принятие и реализацию политических решений, в т.ч. при проведении любых реформ [Нисневич 2008]. Это упорядочение проводилось, как правило, путем последовательного перевода ключевых регуляций на законодательный уровень: так было сделано в начале нулевых годов с налоговыми правоотношениями, которые были полностью переведены на законодательный уровень после принятия Налогового кодекса, а впоследствии была проведена реформа технического регулирования. Реформирование лицензионно-разрешительной и контрольно-надзорной сферы было актуально уже в 2005–2007 гг. [Вилисов 2007], но радикальные реформы по типу реформирования технического регулирования в тот момент проведены не были.
Затрагивая политические факторы административной реформы, нельзя не упомянуть и еще об одном – процессе рецентрализации, который активно проходил в начале нулевых годов и представлял собой формальное и неформальное перераспределение полномочий и влияния от регионов в федеральный центр, которое В.Я. Гельман назвал «возвращением Левиафана» [Гельман 2006]. В ходе этого процесса развитие получила другая тенденция: усиление возможностей федерального центра, в первую очередь в лице федеральных органов исполнительной власти, и, следовательно, бюрократии. Первоначальные принципы административной реформы в части отделения контрольно-надзорных функций от функций нормативно-правового регулирования и управления имуществом, заложенные в указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»1, уже на первоначальном этапе не были реализованы в полной мере [Кролис 2006]. В дальнейшем ситуация не улучшилась: реформа полиции (которая, помимо «силового» ресурса, обладает значительным числом контрольно-надзорных полномочий, сконцентрированных в одном ведомстве – МВД) оказалась совершенно далекой от запланированных результатов и показала, насколько высок потенциал сопротивления бюрократической среды [Taylor 2014].
Перераспределение влияния произошло и в бизнесе: большое развитие получила практика создания государственных компаний и корпораций [Якунин 2017], некоторые из которых также получили регуляторные и контрольно-надзорные полномочия2.
Актуальные реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности нельзя сводить только к принятию соответствующих законов – на президентском уровне ставятся задачи решения конкретных проблем, которые неоднократно озвучивались в президентских посланиях [Вилисов 2016]. Обобщенно их можно сформулировать следующим образом:
– необходимость систематизации административных активностей (властных полномочий) органов исполнительной власти федерального и регионального уровней, как правило, путем «инвентаризации» соответствующих полномочий;
– необходимость рационализации их осуществления, в т.ч. путем сокращения (оптимизации) соответствующих функций и полномочий, например на основе риск-ориентированного подхода в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности или путем составления единого перечня разрешительных полномочий и сокращения их числа;
– необходимость формализации порядка осуществления соответствующих властных полномочий и повышения прозрачности принятия решений путем упорядочения подзаконной регламентации осуществления этих полномочий (введение административных регламентов);
– снятие административной нагрузки с бизнеса как путем сокращения числа проверок и разрешительных действий, так и путем упрощения процедур, в т.ч. за счет перевода их в электронную форму.
Перечисленные задачи дают основания предположить, что на политическом уровне государственного управления была поставлена цель навести порядок на административном, бюрократическом уровне, т.е. укротить Левиафана в традиционном либеральном понимании: сделать бюрократию более прозрачной, рациональной, подконтрольной и эффективной (компактной). Одним из бенефициаров этих преобразований должен был стать бизнес.
Почему эти цели возникли именно в 2014 г.? Безусловно, большое влияние оказал международный контекст. В своем Послании Федеральному собранию в 2014 г. президент находит интересную связь между осложнившимся внешнеполитическим контекстом и необходимостью развития с опорой на внутренние возможности: «…емкий внутренний рынок и природные ресурсы, капиталы и научные заделы… талантливые, умные, трудолюбивые люди, способные быстро учиться новому»3. В этом Послании президент свободу предпринимательства, частную собственность поставил в один ряд с «базовыми консервативными ценностями», такими как патриотизм, и предпринимателям должна была быть предоставлена возможность проявить свой патриотизм через добросовестный труд, проявление своей инициативы – именно в таком ключе в Послании закладываются основы формирования «новых подходов» к контрольно-надзорной деятельности: каждая проверка должна стать публичной, немотивированные и «заказные» проверки должны пресекаться, для малого бизнеса должны быть предусмотрены «налоговые каникулы».
Эти предложения в Послании звучали в контексте других нововведений для стимулирования бизнеса, таких как амнистия капиталов, деофшоризация и возвращение под национальную юрисдикцию, «налоговые каникулы», т.е. целого ряда мер по улучшению делового климата. В целом же экономическая политика получала ориентиры на импортозамещение, поиск новых источников инвестиций (в т.ч. внутренних) и повышение эффективности использования государственных средств (в т.ч. путем сокращения неэффективных или противозаконных расходов).
Таким образом, в период экономического кризиса, вызванного внешнеполитическими причинами, возник резкий спрос на институциональные преобразования, в рамках которых повышение эффективности государственного администрирования, в т.ч. контрольно-разрешительной деятельности, могло стать одним из главных направлений. Как ни странно, в противостоянии с западными странами оказались востребованными традиционные «либеральные» концепции решения проблем управления: ряд экспертов начали высказывать предложения о переходе к «более компактному государству», который нужно начать «с давно обсуждаемой реформы контрольно-надзорной деятельности – перейти, наконец, на риск-ориентированные подходы к проверкам бизнеса»1. В условиях кризиса естественным образом обострилась борьба за ресурсы, в т.ч. за сокращение издержек. Среди них издержки, возникающие при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, оказываются довольно внушительными: по словам ректора ВШЭ, «прямые расходы на систему проверяющих органов превышают 100 млрд руб., а расчетные потери бизнеса оцениваются в сумму от 1,5 трлн до 5 трлн руб. в год»2.
Ставка на риск-ориентированный подход, который предполагает рациональный расчет издержек на осуществление административной деятельности и размер предотвращенного ущерба, стала одним из основных столпов реформы контрольно-надзорной деятельности. «Мировая практика свидетельствует об активном использовании методов оценки риска в целях снижения общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти. Кроме того, использование в административной практике методов оценки риска позволяет более точно учитывать особенности осуществления хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства или оказания услуг»3. Налицо тенденция к повышению прозрачности административной деятельности и рационализации управления, направленная на борьбу с тем самым Левиафаном российской бюрократии, для которого, напротив, характерна ориентация на механизмы «кулуарного при- нятия решений на основе механизмов бюрократического делопроизводства» [Нисневич 2008].
Однако потенциал противника был явно недооценен, и «первый подход к снаряду» (по выражению помощника президента А.Р. Белоусова)1 в части реформы контрольно-надзорной деятельности оказался неудачным: вместо радикальной реформы, предусматривавшей серьезные структурные преобразования (упразднение и/или объединение контрольно-надзорных ведомств на федеральном уровне) президент предложил правительству проработать более эволюционные предложения совместно с представителями деловых объединений2. «В целом реформа идет туго, очень много заинтересованных лиц», – говорит один из собеседников РБК3.
Взаимодействие заинтересованных лиц как раз требует отдельного анализа.
Реформа без поддержки
Несмотря на то что реформы декларировались как проводимые, прежде всего, в интересах предпринимателей, бизнес не оказался активно вовлеченным в процесс их обсуждения и продвижения. Это обстоятельство представляется тем более странным, что он должен быть вроде бы как естественным союзником политического класса в его противодействии бюрократии. Однако, помимо традиционной активности по линии профильного комитета РСПП4, не было отмечено иной активности бизнеса в поддержку реформы. К попыткам привлечения внимания общественности и экспертного сообщества к продвижению реформы контрольно-надзорной деятельности с 2016 г. активно подключился министр открытого правительства М. Абызов. Однако ему тоже, несмотря на многочисленные декларации, так и не удалось добиться согласования законопроекта о реформе с заинтересованными государственными органами и внесения его в Государственную думу. Для такого развития дел есть и объективные причины: качество разработки законопроекта и его концепция вызывают вопросы. В частности, тот текст, который был представлен на рассмотрение изначально в 2015 г., страдал слишком большими недостатками и фактически игнорировал существование отдельных отраслей законодательства (в т.ч. налогового и таможенного), поэтому не мог быть вписан в систему законодательства без революционных изменений. Аргументов в споре с такими тяжеловесами, как Федеральная налоговая и Федеральная таможенная службы, у разработчиков не нашлось.
Примерно так же развивается и судьба законопроекта о совершенствовании разрешительной деятельности: его разработка была анонсирована весной 2017 г. в рамках Недели российского бизнеса5 и сопровождалась аналитическим докладом о ее состоянии, который перечислил основные проблемы в данной сфере [Плаксин и др. 2017]. В нем говорилось о наличии поручения президента о разработке соответствующего законопроекта. Исполнение поручения осуществляет Минэкономразвития, которое формально представило текст для общественного обсуждения летом 2017 г. Широкого резонанса разработка не вызвала, а по информации, содержащейся на федеральном портале правовой информации, разработчик отказался от законопроекта.
Причин такого пассивного отношения к защите интересов предпринимателей достаточно много. С одной стороны, это удобство существующей системы: если бизнес все равно работает, то правила игры ясны. С другой стороны, значимость контрольно-надзорных органов в период санкционных войн существенно возросла.
Однако скорее всего главным фактором является то, что не здесь находятся основные опасности для бизнеса. Наибольшие опасности исходят от других органов, которые не охвачены описываемыми реформами: речь идет о силовых структурах, способных осуществлять уголовное преследование или иное силовое давление на предпринимателей [Rochlitz 2014; Yakovlev, Sobolev, Kazun 2014]. Подобное «силовое предпринимательство» [Волков 2012], в котором чиновники, в т.ч. от силовых ведомств, давно уже перестали быть «инструментом» в руках преступных группировок и заняли лидирующие позиции в подготовке и осуществлении силовых захватов бизнеса, достигло такого масштаба, что вынуждает президента комментировать вопросы изъятия компьютерной техники и серверов у бизнеса, а также содержания под стражей предпринимателей1. Опять, как и с реформой полиции, политический класс, хотя и демонстрирует заинтересованность в сдерживании силовых структур, не может противопоставить им системный ответ. В этих условиях бизнес самостоятельно инициативу демонстрировать точно не будет: Левиафан может отреагировать намного быстрее, чем реформаторы.
Заключение
Скорее всего, завершения этих реформ ждать еще достаточно долго, как и принятия соответствующих законов. В сложившихся российских традициях закон, даже когда он осуществляет радикальное изменение какого-либо порядка, работоспособен только в том случае, когда является результатом определенного политического компромисса или победы одной политической силы над другой. В нашем случае Левиафан, которого требуется победить, настолько сильно интегрирован в систему принятия решений, в т.ч. неформальную, что его требуется сначала найти и ослабить его влияние именно в этих процессах. Поэтому нам нужно ожидать прежде всего кадровых и структурных решений, которые произойдут скорее всего уже после президентских выборов 2018 г.
Список литературы В поисках левиафана
- Вилисов М. 2007. Концептуальные проблемы формирования правовых основ рыночной экономики в России. -Власть. № 7. С. 46-51
- Вилисов М.В. 2016. Механизмы и институты проектирования государственной политики. -Власть. № 7. С. 50-57
- Гельман В.Я. 2006. Возвращение Левиафана? (Политика рецентрализации в современной России). -Полис. Политические исследования. № 2. С. 90-109
- Клименко А.В. 2014. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вызовы. -Вопросы государственного и муниципального управления. № 1. С. 8-51
- Плаксин С.М. и др. 2017. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в Российской Федерации: аналитический доклад. 2016. Доступ: http://www.goskontrol-rspp.ru/images/stories/rspp_files/doklad_komitet/doklad_komiteta_2016.pdf (проверено17.11.2017)
- Кролис Л.Ю. 2006. Функции контроля и надзора в деятельности федеральных служб. -Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. С. 36-40
- Якунин В.И. 2017. Государство и государственные компании: модели формирования и реализации государственной политики. -Бизнес и власть в России: регуляторная среда и правоприменительная практика: коллективная монография (науч. ред. и рук. авт. колл. А.Н. Шохин). М.: ИД ВШЭ. С. 134-152
- Rochlitz M. 2014. Corporate Raiding and the Role of the State in Russia. -Post-Soviet Affairs. Vol. 30. No. 3. P. 89-114
- Yakovlev A., Sobolev A., Kazun A. 2014. Means of Production versus Means of Coercion: Can Russian Business Limit the Violence of a Predatory State? -Post-Soviet Affairs. Vol. 30. № 2-3. P. 171-194