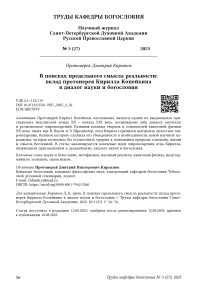В поисках предельного смысла реальности: вклад протоиерея Кирилла Копейкина в диалог науки и богословия
Автор: Протоиерей Дмитрий Кирьянов
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: In memoriam
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Протоиерей Кирилл Копейкин, несомненно, являлся одним из выдающихся христианских мыслителей конца XX — начала XXI века, посвятивших себя диалогу научного и религиозного мировоззрений. Развивая взгляды творцов и основателей квантовой физики XX века, таких как В. Паули и Э. Шредингер, отец Кирилл стремился выстроить целостное мировоззрение, базисом которого служила его убежденность в необходимости новой научной парадигмы, которая позволила бы осуществить прорыв в понимании природы сознания, жизни и смысла Вселенной. В статье анализируются ключевые идеи мировоззрения отца Кирилла, являющиеся приглашением к дальнейшему диалогу науки и богословия.
Наука и богословие, метафизика, научный реализм, квантовая физика, индетерминизм, сознание, панпсихизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140312229
IDR: 140312229 | УДК: 2:1+113/119 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_56
Текст научной статьи В поисках предельного смысла реальности: вклад протоиерея Кирилла Копейкина в диалог науки и богословия
Протоиерей Кирилл Копейкин, несомненно, являлся одним из наиболее ярких мыслителей конца XX — начала XXI вв., посвятившим себя выстраиванию конструктивного диалога между православным богословием и естественными науками. Как специалист в области теоретической физики и православного богословия о. Кирилл на протяжении многих лет был активным участником и организатором множества научных конференций и семинаров, посвященных развитию диалога между научным и богословским сообществом. Диалог предполагает выстраивание мостов между двумя участвующими в нем сторонами. Такое выстраивание мостов является непростой задачей, поскольку предполагает нахождение возможных точек соприкосновения, которые могли бы связать противоположные стороны и привести их к встрече. Нахождение возможных точек соприкосновения всегда требует большой открытости к суждениям противоположной стороны даже в том случае, когда эти суждения могут оказаться не вполне корректными. Сложность выстраивания диалога между православным богословием и естественными науками во многом обусловлена тем, что на протяжении длительного времени естественные науки в России развивались в полном отрыве от христианского мировоззренческого контекста. Это предполагает, что выстраивание мостов и нахождение точек соприкосновения между естественными науками и богословием может быть осуществлено на почве философского осмысления научного знания, т. е. той сферы, которая уже является тесно взаимосвязанной с естествознанием. Неудивительно, что многие участники диалога между наукой и богословием в глобальном мире стремились выстроить свой диалог как «путь от науки к Богу»1 (А. Пикок) или как выражение «веры глазами физика»2 (Дж. Полкинхорн). В своих многочисленных статьях, а также в книге «Что есть реальность. Размышления над произведениями Э. Шредингера»3 о. Кирилл следует той же стратегии: опираясь на специфику развития современной науки в XX–XXI вв. и размышляя над философскими проблемами, которые были поставлены в контексте этого развития, подчеркнуть ценность христианского мировоззрения.
Поскольку ключевые идеи о. Кирилла были сформулированы в последовательной и развернутой форме в его книге, то представляется оправданным обратиться к ней. Как следует из названия, книга посвящена размышлению над взглядами Э. Шредингера о природе реальности. Сложность рассуждений о природе реальности неоднократно подчеркивалась многими философами, учеными и богословами. Разумеется, такое размышление, в попытке построить целостное мировоззрение, невозможно без обращения к широкому спектру взглядов различных философов, ученых и богословов. Так, например, А. Эйнштейн писал: «Трудность заключается в том, что физика представляет собой вид метафизики; физика описывает “реальность”. Но мы не знаем, что такое “реальность”: мы знаем ее только через физическое описание!»4 Парадоксальность этого высказывания состоит в том, что, с одной стороны, мы не знаем, что такое реальность, а с другой стороны, мы убеждены, что физическое описание природы дает нам доступ к реальности.
Ссылаясь на физика Л. Смолина, автор подчеркивает, что настало время вернуться к постановке фундаментальных вопросов о природе пространства-времени, материи5. Важно подчеркнуть, что эти фундаментальные вопросы выходят далеко за рамки самой физики, почему Э. Шредингер и признавал, что в решении этих вопросов невозможно обойтись без «путеводной нити метафизики». Однако парадокс ситуации заключается в том, что, даже признавая необходимость этой путеводной нити, Шредингер все же довольно критически относился к самой метафизике. И в этом одно из основных различий между Шредингером и Эйнштейном, который в письме М. Шлику признавался: «…физика — это попытка концептуального построения модели реального мира, а также его закономерной структуры. В самом деле, она должна точно соответствовать эмпирическим отношениям между доступными нам чувственными опытами; но только таким образом она связана с последним». В заключение письма Эйнштейн делает шокирующее признание: «…Вас удивит “метафизик” Эйнштейн. Но каждое четвероногое и двуногое животное де-факто является метафизиком в этом смысле»6. Таким образом, метафизическое мышление является не просто желательным для ученого, но в некотором смысле предписанным и, можно сказать, неизбежным.
Следующий раздел книги — «Конец науки?», о. Кирилл, обращаясь к постмодернистскому взгляду на науку, начинает с довольно пессимистичного утверждения о том, что «вера в науку … похоже приближается к концу». Автор полагает, что современные сетования о «конце науки» являются «отражением переживания приближающейся смены парадигмы»7. С одной стороны, такое переживание вполне характерно для развития самой науки. Так, например, А. Эйнштейн в период бурного развития квантово-м еханических представлений в 1924 г. считал, что теоретическая физика находится в кризисе вследствие квантовых ограничений, накладываемых на верность классической механики и электродинамики: «…Снова основания теоретической физики потрясены, и опыт призывает к выражению более высокого уровня законосообразности. Когда эта спасительная идея будет дарована нам? Счастливы те, кто доживут, чтобы увидеть ее»8. Как ни парадоксально, но несмотря на успехи в применении квантовой теории и использование ее во множестве современных технологий, философские вопросы продолжают оставаться столь же сложными и дискутируемыми, как и в первые годы ее существования.
Другая проблема, отмеченная автором, заключается в том, что зачастую в современном мире научные метафоры используются как элементы «новой мифологии», в результате чего, по меткому замечанию Дж. Хоргана, возникает т. н. «ироническая наука». Глубокая специализация научного знания и дифференциация наук привели к тому, что размышления философов о научных теориях рассматриваются учеными как незаконное вторжение или даже «злоупотребление наукой». Однако подобным образом и ученые стремятся зачастую вторгаться в сферу гуманитарного знания, пытаясь все объяснить исходя из законов физики. В результате «призыв Шредингера к построению целостного знания наталкивается на сопротивление, вызванное некорректным пересечением границ одних сфер знания представителями других сфер»9. Однако действительная проблема заключается в том, что не существует никаких заранее очерченных границ различных сфер знания. Эти границы всегда были достаточно подвижными, и если мы обратимся к истокам новоевропейской науки, то увидим, что в XVI–XVII вв. таких границ практически не существовало. Следует также отметить, что и для многих столпов квантовой физики XX в. таких четко очерченных границ также не существовало. Так, например, Н. Бор считал, что эвристическое значение принципа дополнительности выходит далеко за рамки квантовой физики и может быть отнесено к другим сферам человеческого знания10. В. Гейзенберг не только считал своей обязанностью заниматься философскими вопросами квантовой физики, но, кроме того, считал музыку тем, что придает смысл человеческому существованию. Неудивительно, что и сегодня появляются работы, в которых проводятся глубокие параллели между развитием квантовой физики и музыки11.
Следующий раздел книги — «Без-человечный мир», посвящен предварительному обсуждению одной из сложнейших проблем — проблемы сознания, которое не включено в научную картину мира. Ю. Вигнер полагал, что физика и психика являются двумя дополнительными аспектами мироздания, тем не менее требующими согласования друг с другом. Эта задача согласования внутреннего и внешнего миров, как отмечает о. Кирилл, по-прежнему остается актуальной12. С о. Кириллом отчасти согласен православный богослов Д. Б. Харт, который также обращает внимание на существование неискоренимого противоречия в научном познании: «Прежде всего абсурдно думать, что модель, созданная посредством сознательного исключения всех ментальных свой ств из нашей картины природы, могла бы затем быть использована для того, чтобы рассмотреть само ментальное; и все же ментальное вполне реально и находится у себя дома в естественном порядке. Если, следовательно, кто-либо предполагает редуктивно-ф изикалистскую модель всей реальности, но затем сталкивается с каким-либо аспектом природы, который, как в случае сознания или интенциональности, оказывается абсолютно сопротивляющимся механистискому описанию, единственный возможный курс действия, это отвергнуть или отложить эту модель в отношении всей природы. Если феномен не может быть устранен, модель ложна»13.
Далее о. Кирилл обращает внимание на два принципа, лежащих в основании современной физики и восходящих, по мнению Шредингера, к античной науке — принцип постижимости и принцип объективации. Проблема, правда, заключается в том, что довольно трудно продемонстрировать, каким образом эти принципы были сформулированы именно в античной науке. Например, принцип постижимости предполагает, что мир представляет собой «довольно сложный механизм, действующий в соответствии с вечными законами природы…», но это подразумевает, что уже в античности должна была быть представлена концепция законов природы, однако в самой книге автор утверждает, что эта концепция является достаточно поздним, новоевропейским изобретением14. Наконец, принцип объективации предполагает, что наука исключает из рассмотрения личность или субъект познания. Однако концепция личности также является довольно поздней и не представленной в античной науке. Принцип объективации приводит к тому, что научная картина оказывается неполной, и здесь мы встречаем определенный парадокс. С одной стороны, «научная картина признается безусловно высшим уровнем доступного нам неопровержимого надежного знания»15. С другой стороны, она не полна и не отвечает на вопросы об этических, эстетических и смысложизненных ценностях. По сути, такая ситуация предполагает наличие сложной иерархии объектов, и признание различных способов и методов познания на каждом уровне таковой иерархии. Однако Шредингер приходит к иному выводу, полагая, что поскольку современная наука не включает в свое описание мир субъективных переживаний, «науку придется обновить». Таким образом имплицитно предполагается, что новая обновленная наука продолжит оставаться высшим уровнем неопровержимого надежного знания и в то же время будет способной описать и объяснить субъективный опыт переживаний. Очевидно, что в основе такого понимания лежит идея полной редукции сложной онтологической структуры мироздания к ее представлению в едином универсальном описании посредством единого универсального метода. В связи с этим возникает вопрос, насколько оправданна такая редукция? Очевидно, что когда Н. Бор говорил о эвристическом значении принципа дополнительности, он предполагал, что существуют сферы, которые не могут быть в принципе редуцированы к науке и описаны в рамках единого универсального метода.
Следующий раздел работы — «Лейбниц и Упанишады», посвящен обсуждению того, каким образом может быть построена универсальная картина, и автор обращается к монадологии Г. В. Лейбница, чтобы попытаться обосновать свой собственный путь к панпсихизму. В качестве такого типа аргументации автор ссылается на поразительную эффективность математической физики, столь ярко выраженную в известной статье Ю. Вигнера. Эффективность математической физики привела А. Эйнштейна к выражению математического реализма: «Наш современный опыт позволяет нам быть уверенными в том, что в природе реализуется идеал математической простоты. Я убеждён, что чисто математические построения позволяют нам открывать концепции и связывающие их законы, которые дают нам ключ к пониманию явлений природы»16. Однако сама по себе эта поразительная эффективность вряд ли может говорить «в пользу отсутствия у “элементов реальности” собственно пространственных характеристик», тем более утверждать, что «элементы реальности» похожи «на логосы в пространстве смысла»17. Хотя эта идея может показаться привлекательной, все же она представляется малообоснованной.
Однако о. Кирилл обращает внимание и на второй путь, привлекающий Э. Шредингера, который делает акцент на признании существования Единого Сознания, которое, по его мнению, проявляет себя во множестве тел. Шредингер напрямую обращается здесь в концепции иллюзорности (майя) существования множества единичных сознаний или вещей, забывая при этом, что иллюзорность восприятия окружающего нас мира не позволяет рассматривать этот мир таким образом, каким он мыслится в европейской науке. В результате акцент Шредингера на иллюзорности существования предлагает такие концептуальные рамки, которые не позволяют их использовать в христианском контексте. И здесь не помогают ссылки о. Кирилла на тексты Св. Писания или на православное учение об обожении, которое не подразумевает никоим образом Единства Сознания и иллюзорности всех остальных сознаний и вещей. В се-таки, библейское учение о творении мира Богом не подразумевает того, что Бог создает тварный мир как иллюзию, которую следует воспринимать как нечто не существующее. Д. Б. Харт в согласии с Э. Шредингером и о. Кириллом подчеркивает, что «в идеале все феномены должны быть сводимы к одной более простой и более емкой модели реальности…», но обосновывает это тем, что «природа уже обладает рациональной структурой, аналогичной мысли». Это приводит Харта к мысли, что «разум населяет природу не как аномалия, но как откровение глубочайшей сущности всего, что существует», а «интенциональность разума … не призрачный агент и не иллюзия, но наиболее интенсивное и яркое выражение тех формальных и телеологических детерминаций, которые дают актуальность всей природе»18. При этом, в отличие от о. Кирилла, Д. Харт не приходит к панпсихизму, поскольку полагает, что науки не должны искать тотального всеохватного объяснения.
Следующий раздел книги — «Теологические истоки современной науки», является, пожалуй, наиболее четко сформулированным и обоснованным историческими источниками. Автор начинает исследование религиозных истоков науки с метафоры «двух книг», цитируемой в Новое время Ф. Бэконом и глубоко укорененной в раннехристианской традиции, представленной во взглядах прп. Ефрема Сирина и свт. Иоанна Златоуста (IV в.), и восходящей, по-видимому, к взглядам Оригена (III в.). Однако развитие этой метафоры в Новое время предполагает, что обе книги нуждаются в соответствующей их природе герменевтике, и христианское богословие творения обеспечило таким герменевтическим инструментарием прочтение не только книги Откровения (Библии), но и книги Природы. Однако, если ранние отцы Церкви делали акцент на доступности книги Природы для ее прочтения и понимания простыми людьми, то в новоевропейской парадигме книга Природы требует понимания сложного языка, на котором она написана — языка математики. Доступность герменевтики книги Природы проистекала из библейского взгляда на человека как образ и подобие Божие, и этот взгляд прямо артикулировали творцы европейской науки, такие как И. Кеплер и Г. Галилей. Наконец, библейский акцент на том, что Бог сотворил все «мерою, и числом, и весом», с неизбежностью привел к пониманию того, что «Книга Природы написана на языке математики»19. Действительно, наука позволила человеку постичь законы мироздания, преобразовать окружающий мир и способствовала, по слову Ф. Бэкона, «процветанию и благу человечества». Тем не менее, автор в конце этого раздела задает вопросы о пределах вмешательства человека в мироздание, а также о полноте той научной картины мира, «исходя из которой человечество пытается определять стратегию своего развития»20.
Пытаясь найти ответ на поставленные вопросы, о. Кирилл обращается к размышлению о статусе законов природы: являются ли они описывающими или предписывающими. Автор акцентирует внимание на том, что само выражение «закон природы» или «физический закон» появляется только в Новое время, причем вследствие объективации исследования возможность обнаружения воли, полагающей закон, исключается. Тем не менее, творцы новоевропейской науки, будучи философами природы, прекрасно понимали, что источником ее законов является Трансцендентный Творец, который, разумеется, не является частью научного описания. Таким образом новоевропейская наука хорошо вписывается в ставшую уже к тому времени привычной иерархию человеческого знания, вершиной которого в Средние века была теология. И здесь автор снова ссылается на Э. Шредингера, который сетует, что наука «пока не может включить в научную картину … личность, сознание и вообще все пси-хическое»21. Сами по себе эти ссылки показательны, поскольку предполагают, что наука и только наука должна быть универсальной формой знания. Однако если такая редукция в принципе возможна, то любые другие формы знания, в том числе и теологическое, оказываются совершенно излишними.
Представляется, что в таких попытках универсализации науки лежит некоторая латентная форма позитивизма или сциентизма. Я предвижу возражение, что моя точка зрения была бы верна, если бы под наукой подразумевалась существующая форма науки, а не некоторая наука будущего. Однако нет никакой уверенности в том, что наука будущего чем-то принципиально будет отличаться от науки настоящего, по крайней мере, вследствие всеобщей тенденции выражения знания на универсальном языке математики. И здесь не помогают философские размышления о том, что такое сознание, поскольку сами вопросы о том, «как нечто психическое, нематериальное … переходит в нечто материальное», имплицитно предполагают, что рано или поздно мы редуцируем это психическое к материальному.
В качестве наглядного примера мы можем использовать, например, ноутбук. Существование ноутбука как физической системы не противоречит ни одному из законов физики или химии, и, таким образом, существование ноутбука вполне можно называть естественным. Однако на другом уровне понимания — уровне оценки сложности и организации, функциональности и телеоло-гичности — мы с несомненностью приходим к выводу о том, что для появления ноутбука недостаточно исключительно физической причинности, справедливо полагая, что это возможно только в результате действия разумного сознательного агента. При этом заметим, что от признания того, что существование ноутбука обусловлено действием разумного сознательного агента, наше знание электроники никак не изменилось. Мы не задаем вопроса о том, как нечто материальное (структурные элементы конструкции ноутбука) порождает нематериальное — целевое предназначение и сложную смысловую организацию этого прибора, поскольку они проистекают не из материальных конституэнтов, но из замысла того, кто осуществляет эту структурную организацию.
Проект Шредингера в некотором смысле предполагает, что организатор должен быть включен в новое научное описание, редуцируя таким образом сложную иерархию уровней бытия к одному уровню. Есть основания полагать, что эта редукция — неважно, осуществляется ли она к физическому уровню, как полагает большинство материалистов, или к психическому уровню, как представлено в различных версиях панпсихизма — не является оправданной и не отражает многослойного характера самой реальности, в которой мы существуем. В этой связи вновь является важным замечание Д. Б. Харта, который подчеркивает, что задачи наук заключаются в локальных исследованиях, а не в универсальных суждениях о природе реальности: «…само предприятие научного рассуждения предполагает, или даже тайно предписывает, что бытие мира — онтологический горизонт, в котором он имеет форму и существует, есть нечто подобное акту мысли. Здесь вопросы науки и теологии конвергируют в отношении одной и той же тайны не через некоторое смешение двух несовместимых видов причинного нарратива (космологического и онтологического, скажем), но совершенно естественно, поскольку сама концепция причинности требует для себя полного богатства всех возможных логических следствий. Никакая физическая наука не может ответить или уйти от объяснения тайн, которые стоят здесь; и никакая возможная теология, но обе должны вполне признавать перепутье, на котором они находятся»22.
Далее о. Кирилл обращается к рассмотрению проблемы сознания, и приводит ряд суждений, которые являются выражением общей растерянности в отношении решения этой проблемы. Например, Т. Нагель пишет: «…ни у кого нет правдоподобного ответа на проблему духа и тела»23. Когда ставятся такие вопросы, у меня всегда возникает встречный вопрос: а какой правдоподобный вариант ответа вас бы устроил? Если же далее Т. Нагель признает, что «сознание следует признать концептуально не сводимым аспектом реальности», то не означает ли это того факта, что те правдоподобные ответы, которые пытаются найти ученые, не соответствуют самому онтологическому статусу сознания? Примечательно, что Т. Нагель полагает, что «провал в объяснении может быть устранен посредством связей того же логического типа, с каким мы знакомы по объяснению других естественных процессов…»24 Если между описанием объективных нейрофизиологических процессов и связанных с ними переживаний наличествует «провал в объяснении», то не означает ли это того факта, что субъективность как таковая обладает иным онтологическим статусом, нежели нейрофизиологические процессы? Поэтому даже если нейробиология в будущем будет способна найти все нейрофизиологические корреляты сознания, это не приведет к ответу на вопрос, почему это происходит, поскольку вопросы «почему?» относятся к другому онтологическому плану, нежели вопросы «как и каким образом?». Возникает закономерный вопрос: какого типа объяснения сознания мы желаем и ищем? Возможен ли в принципе этот тип объяснения сознания? И если автор приводит множество отрицательных ответов на этот вопрос, то что это означает для всего проекта Э. Шредингера?
Размышляя о феномене жизни, о. Кирилл приходит к выводу, «что самое важное — жизнь, душа, личность, уже не говоря о Боге — оказывается устранено из современной научной картины мира»25. Но так ли это плохо, что наука имеет внутреннее методологическое самоограничение, связанное с онтологией тех объектов, которые она своими методами в принципе способна познать? Так ли уж плохо, что объективирующая наука принципиально отказывается от постановки вопроса о смысле и цели существования мира и человека? Можно согласиться с о. Кириллом, что научная картина мира нуждается в расширении и углублении, однако это «расширение и углубление» должно быть осуществлено не на уровне самой науки, поскольку «живое, личностное измерение бытия» имеет совершенно иной онтологический статус, нежели объекты научного знания. Здесь снова следует обратиться к мысли Д. Б. Харта, который подчеркивает, что трансцендентальный горизонт, к которому обращен в конечном итоге всякий научный поиск, всегда будет находиться вне пределов естественных наук: «Науки отваживаются двигаться со всей своей энергией к реальности этой предельной рациональной постижимо-сти — в ставке на то, что бытие мира и структура его рационального порядка являются одним и тем же событием. Таким образом они предпринимают свое вечное путешествие к цели, которой, возможно, в принципе, не могут достичь: раскрыть совершенную взаимную прозрачность между разумом и миром, и, следовательно, предельную реальность, где существование и совершенная постижимость обратимы друг в друга, поскольку обе присутствуют в едином неограниченном акте духовного интеллекта. Это, в богословских терминах, является одним из путей путеш ествия разума к Богу»26.
Следующий раздел — «Загвоздка Вселенной», начинается с рассмотрения проблемы сознания, которой в настоящее время посвящены сотни публикаций и десятки международных научно- исследовательских проектов. При этом о. Кирилл полагает, что «разрешение проблемы сознания невозможно без учета того теологического контекста, в котором появились первые ростки современной науки»27. С этим тезисом следует согласиться, как и с признанием того, что «сознание в некотором смысле иноприродно». Но вся проблема в том, какие выводы должны следовать из этой «иноприродности»? И в этот момент вполне закономерно о. Кирилл переходит на язык богословия, прекрасно понимая, что иноприродность невозможно выразить на языке науки. Так что проблема сознания, которая обозначена в этой главе, гораздо сложнее, нежели просто поиск «хорошей теории». В итоге получается странный «парадокс иноприродности». Философ сознания Д. Серл считает, что «картезианский дуализм и материалистический монизм — оба ложны»28, при этом, если ложность материалистического монизма следует из иноприродности феномена сознания, то совершенно необоснованным выглядит широко распространенное суждение о том, что картезианский дуализм не согласуется с современной научной картиной мира. Наконец, следует напомнить, что даже у Декарта не существует радикального противопоставления духовной и материальной субстанции, которое обычно понимают под «картезианским дуализмом». В этом смысле таковым дуалистом не является и сам Декарт29. Суждение же о том, что подход Декарта не согласуется с «научной картиной мира», может быть верным только при условии принятия именно материалистической картины мира в качестве научной. На самом деле, как видно из высказывания Серла, ненаучной объявляется им любая «традиционная религиозная концепция сознания». Неудивительно, что мы снова встречаем определенное созвучие мысли о. Кирилла и Д. Б. Харта: «Возможно ли, в парадигме наук, какими мы их знаем, что мы можем встретить противоречия, которые мы не можем обойти иначе как посредством радикальной переконфигурации наших ожиданий в отношении самой реальности? Или, более просто, если принимаемая по умолчанию механистическая метафизика, с которой науки, уместно или нет, связаны, должна стать препятствием к более глубокому знанию, что намечалось в нашем исследовании посредством открытия таких противоречий?»30
Следующий раздел — «Тео-рия как Бого-видение», начинается с утверждения, что проблема сознания неразрешима вне теологического контекста. Каким же образом предлагается ее разрешение, особенно учитывая тот факт, что богословие «составляет … вопрошание о человеческой сущности, не сводимой к биологическому или социальному существованию…»31? Отец Кирилл обращается к теоретической физике как науке, изучающей фундаментальные основы мироздания, а также смысл, историю, причины и разумные основания мира. Однако как бы я ни любил теоретическую физику, тем не менее вынужден признать, что значительная часть того, что о. Кирилл отнес к области физики, выходит далеко за ее пределы. Разумеется, ученый как личность, как субъект, как носитель образа Божия ставит вопросы о смыслах, целях и причинах, однако сама ткань теоретической физики и ее математический аппарат не включают этих вопросов. И здесь апелляция в качестве примера к ньютоновскому sensorium Dei оказывается не вполне корректной, ибо основатели новоевропейской науки мыслили себя натурфилософами, а не учеными, стремящимися дать строго объективистское описание мироздания. Для Кеплера, Галилея, Ньютона, Бойля и др. метафизическое понимание мироздания было столь же необходимой частью натурфилософии, как и математическое описание явлений, проведение наблюдений и экспериментов.
Разумеется, что и сегодня ученые продолжают задаваться вопросами, выходящими за рамки самой науки, однако вряд ли возможно согласиться с о. Кириллом в том, что «теоретическая физика вплотную подошла к вопросам, которые традиционно относились к компетенции философии и теологии: Что есть бытие? Что есть материя? Что есть небытие?» Вспомним ответ С. Хокинга на ключевой метафизический вопрос, поставленный Г. Лейбницем: «Спонтанное творение есть причина того, что существует нечто, а не ничто, почему существует вселенная, почему существуем мы. Нет никакой необходимости призывать Бога в качестве причины и начала вселенной»32. Даже если Хокинг является выдающимся физиком- теоретиком и космологом XX в., его ответ на философский вопрос был совершенно неудовлетворителен и потому вызвал закономерную критику многих философов и ученых. В данном случае более корректно было бы сказать, что теоретическая физика ставит перед исследователем вопросы о том, что есть бытие, что есть материя, какова природа мироздания, но эти вопросы являются мета-физическими, и форма мета-физики, которая будет в конечном итоге принята конкретным ученым, зависит от множества факторов. Так, например, А. Эйнштейн, будучи научным реалистом, писал: «Я хочу знать, как Бог создавал мир… Я хочу постичь его мысли, все остальное — детали»33.
Как уже неоднократно отмечалось, научный реализм является практически предписанным самим успехом развития науки. Если научные теории дают нам возможность на их основании конструировать устройства, которые обладают функциональностью и эффективностью, то это может свидетельствовать о том, что они являются не просто полезными инструментами, но имеют отношение к внешней реальности, которую пытаются описать математическим языком34. Так, успех ньютоновской теории тяготения, распространенный на самые широкие классы явлений во Вселенной, позволяет говорить о том, что описываемые им взаимодействия имеют отношение к реальности. Однако иное дело утверждать, что это исчерпывающий язык для описания реальности, поскольку мы никогда заранее не знаем всего многообразия того, что действительно существует. Так, например, из наблюдений скоростей звезд на периферии нашей Галактики следует, что они не подчиняются той зависимости, которая следует из ньютоновской теории тяготения. Например, Солнце вращается вокруг центра Галактики с колоссальной скоростью порядка 220 км/с, что совершенно не согласуется с предсказаниями указанной теории. И все же ученые не сомневаются в том, что закон всемирного тяготения действительно всемирный, и для объяснения скоростей звезд постулируют существование темной материи, которая вносит свой вклад в гравитационное поле Галактики, сообщая звездам на ее периферии огромные скорости. В подобных рассуждениях, очевидно, наблюдается некоторый вид кругообразности. Открываемые нами законы природы, по нашему убеждению, обладают универсальной формой, и, таким образом, униформизм является ключевым метафизическим принципом, без которого невозможна наука. Если где-либо во Вселенной мы наблюдаем нарушение этого принципа униформизма, мы не отвергаем его, поскольку он является базовым метафизическим принципом, но пытаемся объяснить кажущееся его нарушение какими-либо иными физическими воздействиями. И здесь приходится не согласиться с поспешным выводом о том, что «теория начинает претендовать не только на описание того, что существует, но и на определение того, что в принципе может существовать, а значит, и на исключение того, что в принципе существовать не может»35. Если первое является следствием научного реализма, то второе и третье — философским утверждением сциентизма.
В следующем разделе — «Великая проблема современной физики», автор начинает свое рассмотрение с трех великих проблем современной физики, сформулированных В. Л. Гинзбургом. Первая из них — интерпретация нерелятивистской квантовой механики. Отец Кирилл ставит справедливый вопрос о том, какова «онтологическая реальность, стоящая за теми математическими конструктами, при помощи которых фундаментальная физика описывает мир?»36 Однако проблема заключается в том, что не существует простой логической процедуры перехода от математических конструктов к онтологическим объектам даже в более простых случаях, нежели квантовая физика. Наконец, развитие науки и смена научных теорий влекут за собой смену онтологических моделей, а потому всегда остается опасность, что наши текущие онтологические модели являются не более чем ложными метафизическими конструктами, которые будут сметены как наивные представления в ходе дальнейшего развития науки.
На самом деле проблема содержательной интерпретации фундаментальных структурных закономерностей существует не только в современной физике, она существовала и на ранних этапах развития новоевропейской науки. И такие содержательные интерпретации также конфликтовали друг с другом. Достаточно вспомнить о том, что понятие «силы» Ньютона имеет не только физический, но и метафизический смысл, поскольку силы действуют в пространстве, которое Ньютон называл «чувствилищем Бога». В то же время, как справедливо указывает А. Макграт, популярное ньюто-нианство конца XVIII–XIX вв. совершенно исключает Бога не только из научного описания, но и из мировоззрения вообще37. Поэтому совершенно справедливы и дальнейшие рассуждения о. Кирилла о том, какая реальность соответствует самой математике, учитывая неоспоримый факт ее парадоксальной эффективности в описании физического мира — дар, которого, по замечанию Ю. Вигнера, мы не понимаем и не заслужили38. Неудивительно, что большинство физиков- теоретиков являются платониками, т. е. убежденными в онтологическом существовании тех математических структур, которые конструирует и / или открывает разум. Предельный платонизм был высказан в свое время М. Тегмарком в суждении: все, что возможно математически, должно существовать в реальности. И даже если трудно согласиться с таким крайним взглядом, следует признать, что математическое понимание мироздания является не менее удивительным фактом, как и то, что человек способен понять мир математически. Факт, что человек обладает математическими способностями, которые намного превосходят потребности эволюционного выживания, также требует объяснения.
Следующий раздел — «Объективный предел объект(ив)ности», начинается с акцента творцов новоевропейской науки И. Кеплера и Г. Галилея на необходимости описывать мир математически. Галилей подчеркивает, что без математического описания мира человек обречен блуждать в потемках по лабиринту. Отец Кирилл отмечает, что «процедура объективации подразумевает», что один элемент мироздания соотносится с другим так, что сущность изучаемых объектов, т. е. сам способ их бытия «выносится за скобки»39. Можно было бы согласиться с этим суждением, однако пример Кеплера этого не подтверждает. Если имя выражает сущность предмета, то, например, открытие 3-х законов Кеплера привело не только к математическому описанию гелиоцентрической системы мира, но и к изменению сущностей. Так, в результате этой перемены Земля становится одной из планет наряду с Венерой, Марсом и Юпитером, а Солнце — звездой, в то время как Луна приобретает статус спутника, как и т. н. «звезды Медичи» Галилея. Кроме того, представленные в «Звездном вестнике» (1611) аргументы Галилея предполагают, что то, что он наблюдал с помощью телескопа, отнюдь не является «проекцией различных элементов мира на измерительные приборы». В целом стремление к объективации как раз и мотивировалось тем, что спорные метафизические сущности алхимиков стали заменяться конкретными, описываемыми в количественных отношениях.
Далее автор переходит к трансформации ситуации в связи с развитием в XX в. квантовой физики и подчеркивает, что «обнаруживаемая квантовой механикой случайность открывает своего рода “природный зазор” для действия божественного промысла»40. В контексте диалога науки и религии эта возможность обсуждалась в рамках проекта NIODA (неинтервенционистское объективное божественное действие), разрабатывавшегося на протяжении многих лет Р. Расселом и др.41 В контексте этой дискуссии было показано, что даже если подобная возможность существует, все же такой способ действия Божия в мире является весьма ограниченным и не способным привести к тем результатам, которые представлены в христианской теологии. Во всяком случае, это может рассматриваться как один — но отнюдь не единственный! — из возможных способов действия Божия в мире. Очевидно, что квантового индетерминизма явно недостаточно для концептуализации действия Божия в мире. В любом случае, в этом разделе книги о. Кирилла остается большая недосказанность и неясность, которая требует прояснения.
Следующий раздел — «Внутренняя сторона реальности», посвящен прояснению и осмыслению специфики вероятностного понимания квантовой механики. И здесь следует согласиться с о. Кириллом в том, что «поскольку результаты предсказаний, полученных при помощи описания системы на языке амплитуды вероятности, поразительно хорошо соответствуют результатам их экспериментальной проверки», то физическая реальность в квантовой механике приписывается именно амплитуде вероятности42. Проблема только в том, что эволюция волновой функции, согласно уравнению Шредингера, происходит не в евклидовом пространстве, а в гильбертовом пространстве, т. е. в совершенно иной структуре, онтологический статус которой не вполне ясен. На эту сложность указывает также М. Эсфельд: «…если кто-то признает конфигурационное пространство (а волновая функция существует не в нашем евклидовом, а в гильбертовом конфигурационном пространстве) как дальнейшую стадию физической реальности вдобавок к независимому трехмерному физическому пространству, то не ясно, как может быть реальная связь между этими двумя пространствами, которая могла бы относиться к чему-либо существующему в одном пространстве, руководя, или пилотируя движение сущностей, существующих в другом»43. В результате остаются две возможности — либо лишить волновую функцию какого-либо онтологического статуса, либо придать больший онтологический статус конфигурационному пространству, что и делает о. Кирилл. Это позволяет ему говорить о том, у мира есть «внутреннее измерение бытия», к которому невозможно прикоснуться подобно кантовской «вещи в себе». В результате, как хорошо показал математик И. фон Нейман, мы всегда должны делить мир на две части — наблюдаемую систему и наблюдателя, граница между которыми остается произвольной. Эта произвольность проведения границы фактически приводит к суждению о включенности сознания в процесс измерения. Отец Кирилл делает далее вывод о том, что квантово- механический мир обладает своей внутренней жизнью, так что его можно назвать живым.
Следующая глава — «Мышь Эйнштейна, кот Шредингера и друг Вигнера», посвящена размышлению о том, как понимать парадоксы квантовой механики, и в согласии с А. Шимони и Б. д’Эспанья приходит к выводу о том, что на фундаментальном уровне мироздание представляет собой некоторый вид «психической ткани бытия», взаимодействующей с человеческой психикой. В итоге о. Кирилл проводит аналогию между лейбницевским миром монад и квантовым миром микрообъектов, с одним лишь отличием, что квантовые объекты могут «вступать в общение» с другими монадами44.
В главе «Герменевтика книги Природы» о. Кирилл ставит вопрос о том, есть ли у нас надежда познать внутреннюю реальность квантового мира, «проникнуть в сокрытое измерение бытия»? Утвердительный ответ на этот вопрос связан, по мнению автора, с получением нового синтеза синтаксического, семантического и прагматического прочтения книги Природы в соотнесении со структурами книги Откровения. Отец Кирилл настаивает на необходимости создания нового понятийного языка, формирования новой исследовательской парадигмы, однако проблема заключается в том, что не вполне понятно, на каких основаниях должна строиться такая парадигма, насколько она окажется успешной, и не будет ли она очередным утопическим проектом. Отец Кирилл обращает внимание на проект, который не привел ни к каким положительным результатам — обращение многих основателей квантовой физики к философско-религиозному наследию Востока. Кроме параллелей и аналогий этот проект ничего больше не дал. Отец Кирилл полагает, что осмысление достижений современной науки в библейском богословском контексте может помочь решить проблему сознания, а также помочь в поиске путей выхода из нынешнего системного цивилизационного кризиса. Этот целостный «понимающий» взгляд должен включать в себя органическую интерпретацию естественнонаучного, гуманитарного и богословского знания, однако всегда возникает вопрос о критериях истинности такого взгляда или интерпретации. Очевидно, что подобные объединяющие рамки знания не могут опираться на экспериментальную проверку. Отец Кирилл полагает, что таким критерием истинности может быть органичная укорененность в культурно-историческом контексте новоевропейской науки, но здесь сразу же возникает первая трудность, поскольку в этом контексте могут считаться укорененными весьма и весьма различные мировоззрения. Проблема в том, что новоевропейская наука является результатом сложного взаимодействия философского античного, христианского средневекового и возрожденческого герметико-оккультномистического мировоззрений. И хотя в богословской среде принято делать главных акцент на христианских истоках новоевропейской науки, невозможно совершенно игнорировать и другие влияния.
Отец Кирилл подчеркивает, что сегодня наука вновь начинает нуждаться в теологии45, однако на протяжении многих лет систематического диало- га науки и богословия постоянно обнаруживается очевидная асимметрия между ними. Достаточно посмотреть даже на саму монографию о. Кирилла, чтобы понять, что эта асимметрия является радикальной. Если мы обратимся к истокам новоевропейской науки, в частности к Кеплеру, то мы увидим, что его богословская укорененность в христианстве, в частности в лютеранском богословии, была личным стимулом к тому, чтобы раскрыть гармонию мира, вложенную в него Творцом. Родившись в христианской теологической парадигме, по замечанию физика П. Дэвиса, наука и сегодня продолжает опираться на неявно принимаемые учеными предпосылки, которые имели своим источником христианское богословие творения. Вот почему Дэвис утверждает, что все ученые, осознают они это или нет, имплицитно принимают теологическую парадигму46. Однако если в XVI-XVII вв. христианское богословие было опорой и стимулом для научной деятельности, то сегодня ситуация совершенно иная. Сегодня вопрос о том, что может дать богословие науке, зачастую остается без ответа, либо ответ оказывается явно недостаточным. Как представляется, нет убедительного ответа на этот вопрос и у о. Кирилла. Хотя он говорит о новой теологии XXI в., обогащенной новым опытом, который она обрела благодаря прочтению книги Природы, такое суждение представляется несколько утопичным, поскольку прочтение книги Природы еще продолжается и не все ее главы ясны в достаточной степени, а в отношении некоторых глав и в научном, и в богословском сообществе идут ожесточенные дискуссии. Более того, среди богословов нет даже единого понимания того, действительно ли прочтение книги Природы, т. е. результаты современной науки, должны влиять на характер самого богословия.
Следующая глава — «Мiр как ф«хП Творца», ставит вопрос о том, какие выводы о природе мироздания позволяет сделать обращение к богословскому контексту науки. Ссылаясь на философа Д. Чалмерса, Э. Шредингера и др., автор склоняется к панпсихизму, полагая, что фундаментальная реальность, по существу, психична, а мир как творение существует во внутренней реальности Бога, реальности псюхе. Такое представление о взаимоотношении Бога и мира принято называть панентеизмом, однако следует заметить, что существует множество интерпретаций или версий панентеизма и смешение этих интерпретаций может привести к путанице. Так, например, митр. Каллист (Уэр), проф. К. Найт, а также А. В. Нестерук разрабатывали допустимые в рамках православного богословия понимания панентеизма, решительно отвергая панентеизм Уайтхеда и многих современных богословов, предполагающий становление Бога вместе с тварным миром47. В связи с этим обращение к панентеизму без детальной конкретизации того, какие его рамки являются приемлемыми, к сожалению, не помогает прояснению ситуации, а скорее запутывает. Еще больше запутывает приведенное далее о. Кириллом суждение А. Линде, который полагает, что вслед за полной геометризацией всех взаимодействий наступит этап решения проблемы сознания и внутреннего мира человека48. Однако сам контекст цитаты предполагает, что решение должно искаться не исходя из каких-то новых парадигм, а в рамках существующей парадигмы геометризации или математизации всего человеческого знания.
В следующем разделе «Великое молчание Вселенной» о. Кирилл рассматривает Большой взрыв и соотносит его, как представляется, не вполне корректно с творением из ничего. Проблема заключается в том, что как уже неоднократно отмечалось многими исследователями, ничто не существует ни в каком смысле, оно не может быть ни квантовой флуктуацией вакуума, ни чем-либо иным, что обладает физическими характеристиками49. От космологии о. Кирилл столь же быстро вновь переходит к размышлению о месте человека во Вселенной и возможности существования инопланетного разума. Почему Вселенная молчит, почему мы в ней одиноки? Однако фактического ответа на этот вопрос о. Кирилл не дает, по существу, уходя от ответа на поставленный вопрос.
Следующий раздел — «Мир на (пере)крест(ь)е», начинается с размышления о глобальной катастрофе, повороте или точке перегиба. Однако главный акцент главы автором сконцентрирован вокруг тезиса о том, что познание Вселенной и познание человеком самого себя имеют некоторую соизмеримость, или, как прекрасно сказал в своей работе А. В. Нестерук, «Вселенная создана по образу образа Божия»50. Проблема заключается лишь в том, что несмотря на множество образов и метафор, приведенных в этой главе, не выстраивается единого плана или единой картины мысли автора. Множество высказываний смешивают, как уже было ранее отмечено, «контекст открытия» и «контекст оправдания», что радикально снижает убедительность аргументации автора.
На протяжении последующих лет после публикации книги о. Кирилл продолжал разрабатывать проблематику, связанную с неполнотой картины мироздания, представленной в рамках современного естествознания. Последняя наша переписка состоялась 25 февраля 2025 года. В ней о. Кирилл сформулировал итоги своей многолетней рефлексии. При подготовке к семинарам в РГПУ им. А. И. Герцена о. Кирилл сформулировал ряд тезисов, которые мы с ним обсуждали в переписке.
Уместно ли при обсуждении научных вопросов обращаться к теологии? Со ссылкой на астрофизика В. Ф. Шварцмана о. Кирилл подчеркивает, что «для адекватного понимания “языка Вселенной” необходимо обращение к теологическому дискурсу»51. Отец Кирилл пытается обосновать этот тезис тем, что наука является довольно-таки поздним изобретением человечества, а потому язык Вселенной «вероятнее всего укоренен в глубинных универсальных слоях культуры…»52 Таким образом, чтобы понять «послание
Вселенной», необходимо обратиться к языку, на котором это послание выражено, т. е. языку мифологии и теологии. И здесь присутствует традиционное для о. Кирилла разделение функций языка: математика описывает «синтаксис» мироздания, понимание требует наполнения этого синтаксиса семантическим и прагматическим содержанием.
Проблема, однако, заключается в том, что на протяжении многих своих работ (в том числе, в монографии) о. Кирилл неоднократно подчеркивал поразительную эффективность математики в описании реального мира, и это предполагает, что роль математического описания выходит далеко за рамки только синтаксиса. Другая проблема: вряд ли следует ожидать, что язык науки изменится в том смысле, что наука с языка математики перейдет на какой-то иной язык. Разумеется, математика может меняться, причем меняться весьма радикально. Неудивительно, что М. Тегмарк отстаивает точку зрения, — все возможное математически существует в реальности53, а Р. Пенроуз признает, — некоторая форма платонизма является сегодня почти обязательной. И даже если эта поразительная эффективность является даром Творца, как и способность постичь мир (см. взгляды Кеплера, например), то возникает закономерный вопрос, что сегодня может дать теология науке? Для Дж. Полкинхорна теология, точнее, «тринитарная метафизика»54 представляет собой концептуальные рамки понимания Вселенной, в которых только и может существовать и развиваться математическое естествознание. Подобным образом отвечает на вопрос и о. Кирилл: «ибо только осмыслив послание Вселенной, прочитав и поняв вторую Книгу Творца, мы сможем постичь, в каком мире мы живем, и какое место мы занимаем»55.
Второй вопрос, поставленный о. Кириллом, касается проблемы места человека в мироздании и смысла его существования, а также связанной с этим проблемы сознания. Отец Кирилл полагает, что такие феномены как «сознание (психика, личность наблюдателя, жизнь) имплицитно уже содержатся в квантовой теории», а свою задачу он рассматривает как экспликацию этого присутствия56. В качестве такой экспликации о. Кирилл предложил символическое описание качественной неделимости целого, которое является взаимо- дополнительным по отношению к традиционному математическому аппарату квантовой механики. Само по себе такое символическое описание может быть интересным, но в связи с ним возникает закономерный вопрос: дает ли нам таковое описание понимание и объяснение того, чего мы до появления этого описания не понимали или не могли объяснить? С точки зрения ученого также возникает вопрос: обладает ли это символическое описание какой-либо эвристической функцией, имеющей отношение к традиционной науке? Кроме того, насколько обоснованным можно считать утверждение о тождественности психической и физической реальности?
Наконец, крайне сложно согласиться с суждением о. Кирилла, что «квантовая механика может называться теорией бытия»57, даже если учесть его замечание, что Бытие в теологическом контексте есть дар Творца. Все-таки, подобные метафизические суждения в отношении отдельных научных теорий выглядят довольно поспешными, учитывая тот факт, что мы не можем в настоящее время (да и в обозримом будущем) претендовать на познание бытия в целом. Панпсихизм о. Кирилла является лишь возможной, но не единственной и отнюдь не обязательной метафизической парадигмой, в рамках которой возможно было бы взглянуть на мир как целое. В любом случае стоит принять во внимание замечание Г. Ниенхуса: «Главное следствие квантовой механики для богословия состоит в том, что мы должны быть скромными, чтобы делать универсальные утверждения на основании науки. Ибо мы можем знать вещи и использовать их даже тогда, когда мы их не понимаем»58.
В заключение следует отметить, что рассуждения о. Кирилла о природе реальности, смысле мироздания и месте в нем человека, а также о природе сознания и будущем человечества, несомненно, обладают глубиной и выразительностью, побуждают к дискуссии и приглашают к дальнейшему диалогу. Это именно то, к чему стремился о. Кирилл на протяжении своей академической карьеры — выстраивать диалог с людьми разных мировоззрений, раскрыть перед ними глубину христианского миросозерцания и способствовать их движению к Богу.