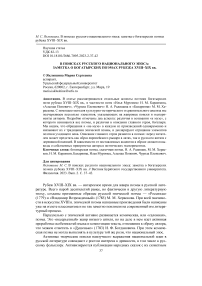В поисках русского национального эпоса: заметка о богатырских поэмах рубежа XVIII-XIX вв
Автор: Яклюшина Мария Сергеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются отдельные аспекты поэтики богатырских поэм рубежа XVIII-XIX вв., в частности поэм «Илья Муромец» Н. М. Карамзина, «Альоша Попович», «Чурила Пленкович» Н. А. Радищева и «Бахарияна» М. М. Хераскова. С помощью методов культурно-исторического и сравнительного анализа мы подчеркиваем несколько элементов, указывающих на жанровые поиски и эксперименты авторов. Подробно отмечены два аспекта: различия в воззвании «к музе», с которого начинаются все поэмы, и различия в описании главного героя, богатыря. Мы видим, что обращения к «не-музе» в каждом из произведений одновременно и связывают их с традициями эпической поэмы, и декларируют отрицание элементов поэтики уходящего века. Описание главного героя разнится в поэмах: перед читателем может предстать как образ европейского рыцаря в латах, так и русского витязя с деревянной палицей. В зависимости от поставленных акцентов в образе делаются выводы о собственных приоритетах автора в поэтических экспериментах.
Богатырская поэма, сказочная поэма, н. а. радищев, м. м. херасков, н. м. карамзин, бахарияна, илья муромец, альоша попович, чурила пленкович
Короткий адрес: https://sciup.org/148326726
IDR: 148326726 | УДК: 82-13 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-37-42
Текст научной статьи В поисках русского национального эпоса: заметка о богатырских поэмах рубежа XVIII-XIX вв
Яклюшина М. С. В поисках русского национального эпоса: заметка о богатырских поэмах рубежа XVIII‒XIX вв. // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 2. С. 37‒42.
Рубеж XVIII‒XIX вв. — интересное время для жанра поэмы в русской литературе. Всего парой десятилетий ранее, но фактически в другую литературную эпоху, созданы признанные образцы русской эпической поэмы — «Россияда» (1779) и «Владимир Возрожденный» (1785) М. М. Хераскова. При всей значимости в искусстве XVIII в. эпической поэмы названные произведения были написаны уже на излете классицизма и не так заметно повлияли на современный им литературный процесс.
Параллельно с эпической активно развивается комическая, или «салонная», поэма. Это «несерьезный» жанр низкого штиля, но на деле в нем идет активная проработка особенностей языка и композиции текста, отношения к образу автора, что можем отметить в «Душеньке» (1783) И. Ф. Богдановича. При этом комическая поэма не могла выполнять в культуре той же роли, что национальный эпос.
Активные творческие поиски наилучшего выражения национальной идеи в русской литературе совпадают с ростом интереса к древности, в том числе к русскому фольклору. Активизируются публикации народных сказок с их сюжетным и мотивным разнообразием, общество знакомится с народными песнями, а через них — с метром и ритмом народной поэзии. B 1770–1774 гг. вышел большой сборник M. Д. Чулкова «Собрание разных песен» (в четырех томах); в 1790 г. — сборник Н. А. Львова «Собрание русских простонародных песен с их голосами, положенными на музыку Иваном Прачем». Следует отметить и активный интерес А. И. Мусина-Пушкина к памятникам древнерусской литературы, приведший к публикации «Слова о полку Игореве» (1800).
Закономерно, таким образом, появление новых поэтических произведений, объединяющих поэтические достижения комической поэмы с устремленностью к национальному своеобразию. А. Н. Соколов, говоря о жанре поэмы, основанной на фольклорном материале, указывает на две проблемы. Во-первых, поэма развивалась в период предромантизма и в самую зарю романтизма, когда писатели принципиально отказывались от принятых в классицизме жанровых канонов и иностранных образцов. Во-вторых, ориентация на отечественный фольклор понималась авторами различно: обращаясь к различным фольклорным жанрам, они по-разному воплощали в произведении связь с народной культурой [10, с. 266–267]. Это приводит к тому, что в литературоведении для поэм такого типа существует несколько вариантов названий, более или менее соответствующих каждому отдельному случаю: «сказочные», «богатырские», «сказочно-богатырские» поэмы, «русская поэма», «русская эпопея», «романтическая эпопея». А. Н. Соколов считает, что все эти наименования имеют смысл и подчеркивают разные значимые стороны феномена. Мы остановимся на термине «богатырская поэма» и рассмотрим с точки зрения отдельных особенностей поэтики несколько ее вариантов: это «Илья Муромец» Н. М. Карамзина, «Альоша Попович» и «Чурила Пленкович» Н. А. Радищева, «Бахарияна» М. М. Хераскова.
Жанровая природа данных поэм и сегодня вызывает заметный интерес у исследователей. Из последних следует отметить работы Т. В. Федосеевой о характере исторического мышления в богатырских поэмах [11], О. В. Захаровой о трансформациях образа Чурилы Пленковича и Алеши Поповича [2‒4], О. Э. По-дойницыной о жанровых противоречиях «Ильи Муромца» [7]. Кроме того, само понятие «богатырства» существенно влияет на национальную литературу и после угасания рассматриваемого нами жанра, о чем подробно пишет, например, С. В. Капустина [5].
Начало жанру богатырской поэмы положила изданная в 1795 году «богатырская сказка» Н. М. Карамзина «Илья Муромец». Это произведение не окончено — читателям представлены только введение и завязка сюжета, в которой «богатырь младой» Илья Муромец встречает и пробуждает от колдовского сна девушку-воительницу. Значение этой первой богатырской поэмы не в сюжете — вполне возможно, что Карамзин и не собирался продолжать «Илью Муромца». В небольшой первой части произведения он уже вводит новый «русский стих», провозглашает ориентацию на родной фольклор и мифологию, утверждает увеселительный характер поэмы.
«Илья Муромец» написан четырехстопным хореем с дактилическими клаузулами, белым стихом: «Нам другия сказки надобны, / Мы другия сказки слышали, / От своих покойных мамушек. / Я намерен слогом древности / Рассказать теперь одну из них» [6, с. 95]. Это не тоническое стихосложение, свойственное былинам, но все же создающее близкое впечатление. Такой же слог будет использовать М. М. Херасков в более поздней «Бахарияне».
От Карамзина же идет в определенном смысле травестированное воззвание к «не-музе» в начале поэмы. В жанровом каноне античной и классицистической эпической поэмы было принято взывать к Музе или к Истине. Богатырская поэма переворачивает этот известный всем любителям классицистической литературы элемент канона с ног на голову. В «Илье Муромце» автор обращается к Неправде, очевидно отталкиваясь от воззвания к Истине. Звучит воззвание в первой богатырской поэме так: «Ты, которая в подсолнечной, / Всюду видима и слышима, / Ты, которая как бог Протей, / Всякой образ на себя берешь, / Всяким голосом умеешь петь, / Удивляешь, забавляешь нас, / Всё вещаешь, кроме… истины. <…> / О, богиня света белаго — / Ложь, неправда, призрак истины! / Будь теперь моей богинею <…> / Ложь! с тобою не учиться мне / Небылицы выдавать за быль» [6, с. 95].
В «богатырском песнотворении» Николая Александровича Радищева «Аль-оша Попович» (1801) также декларативно прописывается отказ от классического воззвания к Музе: «Богинь Парнасских не взываю, / Оставя древний в том обряд, / И песнь без Муз я начинаю; / Без них найду в стихах я склад. / Альошу древняго пою: / Внуши, Альоша! песнь мою [8, с. 3].
Во вступлении к «Бахарияне» (1803) М. М. Хераскова также появляется не муза, а богиня Фантазия (перекликаясь с «Неправдой» Н. М. Карамзина), провозглашая ориентацию на древнерусскую тематику и карамзинский слог: «Услаждай, рисуй, выписывай, / Древним пой стихосложением, / Коим пели в веки древние / Трубадуры царства Рускаго; / <…> Иль таким стихосложением, / Коим справедливо нравится / Недопетый Илья Муромец» [12, с. 10].
Мы видим, что поэты, обращаясь многовековой традиции эпической поэмы, не полностью отказываются от начального классического воззвания. При этом они напрямую полемизируют с традицией, пытаясь найти тему и слог для самобытной, национальной поэмы. Спор этот ведется как бы в шутку, легким слогом, но имеет большое значение для литературного процесса. В частности, в этом споре автор проявляется как своеобразный герой, ведущий диалог с читателем и с текстом1.
Если классицистические эпические поэмы, такие как «Россияда» или французская «Генриада», обращались к исторической тематике и к античным жанровым образцам, то богатырская поэма для создания эпоса нового времени — к древнему национальному эпосу. Обращение это достаточно своеобразно: сюжеты фольклора и народного эпоса переплетаются с привычными для литераторов XVIII в. европейскими мотивами и сюжетами. Один из наиболее показательных примеров такого смешивания — образ главного героя, богатыря.
В «Илье Муромце» герой выглядит как европейский рыцарь — в полных латах, в пернатом шлеме, а для повествования о нем взаимозаменимо используются слова «богатырь», «витязь» и «рыцарь»: «На главе его пернатый шлем, / с золотою, светлой бляхою, / на бедре его тяжелый меч, / латы, солнцем освещенныя, / сыплют искры и огнем горят. <…> / Кто сей рыцарь? — Илья Муромец» [6, с. 96].
В «Бахарияне» главный герой (Орион, или «Неизвестный») выглядит и описывается также как рыцарь: «Рыцарь въ малой лодочке сидит, / Голову его закрыл ше-ломъ, / Осененный тремя перьями, / Тремя перьями, сокольими, Жолтыми, не ра-зпещренными. / Въ латы онъ одет кольчужныя, / В латы, в латы вороненыя; / Держитъ он в руке булатный мечь; / Щит, как будто мрачной облачок, / На груди тихонько движется…» [12, с. 13]. Мы видим интересное сочетание «богатырских» элементов образа — булатного меча, «шелома», «воронёного» цвета брони и «рыцарского» пернатого шлема и лат.
Н. А. Радищев осмысливает непосредственно в тексте поэмы это противоречие образа главного героя. В «Альоше Поповиче» он дает достаточно нейтральный с точки зрения описания брони образ витязя: «Под шлемом волосы чернеют, / Ви-ясь, падут по раменам, / Глаза блистают и светлеют, / Подобясь жарким двум звездам. / Он прям и строен так, как кедр, / И меч висит пониже бедр. / В десной его копье златое, / А в шуей крепкой черной щит, / На коем знаменье святое / Изсечен бог Перун сидит. / Броня железна кроет грудь…» [8, с. 4]. Видимо, почувствовав, что в таком описании недостаточно национального колорита, своего второго богатыря, Чурилу Пленковича, Радищев описывает уже более полемично. Сначала он обращается к Музе, которую так отвергали авторы этого жанра, с просьбой описать рыцарские латы героя и сравнить с известным героем европейской рыцарской поэмы: «На древняго Нимврода, На юнаго Ренода…?» [9, с. 33]. После чего отрицает подобный образ и описывает абсолютно самобытного героя: «Одежду он носил простую, / Не броню крепкую стальную; / Суконной Русской балахон, / Чтобы движеньям мышц не делал он препон. / Под ним полукафтанье парчевое, / Где по краям шитьё узорчато златое / Подтягивал кушак Персидской с серебром; / Высока шапочка, опушена бобром, / Главу Чурилы покрывала <…> Не меч висит на нем, из стали иссеченной, / И в дланях у него не крепкой лук тугой / С звучащей тетивой; / Не щит гербами испещренной, но толстой длинной клен <…> И нож ко-жевничий…» [8, с. 34–35].
Мы видим в этих поэмах поиски образа национального героя. Перед нашими авторами стоят, по сути, вопросы: важен ли для нас внешний образ героя? Если да — связать ли его с традициями европейской литературы или искать новый, национальный образ? Писатели отвечают на эти вопросы по-разному. Для Карамзина важнее пока что не внешность героя, а идея русского стиха и богатырской тематики, поэтому какого-либо спора об образе героя не возникает: это классический юноша эпохи сентиментализма, просто одетый как благородный русский витязь, представляемый в конце XVIII в. в образе рыцаря в латах и в пернатом шлеме. Для Н. А. Радищева, несмотря на шутливый тон его поэм, поиски образа именно русского богатыря имеют значение, и это отражается в своеобразном споре с Музой. Герой М. М. Хераскова является на деле аллегорическим персонажем и связан потому и с русской сказкой, и с традициями европейской литературы: выглядит и ведет себя в зависимости от контекста и как благородный рыцарь, и как герой русского фольклора.
Конечно же, понимание богатырской поэмы как отдельного жанра требует более детального анализа поэтики, но уже эти два аспекта показывают нам, как происходили поиски нового эпического начала в русской поэзии на рубеже XVIII–
XIX вв. Полемический отказ от обращения к музе указывает на постепенный разрыв с классицистической поэтикой, но одновременно само присутствие обращения к фантастической сущности — Неправде, Фантазии, герою произведения — парадоксально продолжает традиции эпической поэмы. Образ героя-богатыря, еще мерцающий и напоминающий классического рыцаря, обнаруживает поиски нового типа героя. Пусть богатырская поэма и не дошла до современного читателя в корпусе признанных произведений русской классики, поэмы Н. М. Карамзина, Н. А. Радищева, М. М. Хераскова открыли дорогу к литературным сказкам и романтической поэме XIX в.
Список литературы В поисках русского национального эпоса: заметка о богатырских поэмах рубежа XVIII-XIX вв
- Акимова Т. И. Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и волшебно-сказочные поэмы К. XVIII Н. XIX века // Известия ПГУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 23. С. 106–115. Текст: непосредственный.
- Захарова О. В. Образ Алеши Поповича в «Богатырском песнотворении» Н. А. Радищева (проблема жанровых трансформаций) // Проблемы исторической поэтики. 2016. № 14. С. 107–126. Текст: непосредственный.
- Захарова О. В. Проблема сюжета и жанра в «Чуриле Пленковиче, богатырском песнотворении» Н. А. Радищева // Проблемы исторической поэтики. 2017. № 1. С. 20–35. Текст: непосредственный.
- Захарова О. В. Жанровые трансформации в «Повести о сильном богатыре Чуриле Пленковиче» В. А. Левшина // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 3(164). С. 107–111. Текст: непосредственный.
- Капустина С. В. Концепт «богатырство» в русской литературе: диалектика константного и оригинального // Вестник БГУ. Филология. 2019. № 2. С. 27–32. Текст: непосредственный.
- Карамзин Н. М. Илья Муромец // Русская поэзия: собрание произведений русских поэтов / под редакцией С. А. Венгерова. Санкт-Петербург: Тип. И. А. Ефрона, 1893–1901. Вып. 7. С. 95–98. Текст: непосредственный.
- Подойницына О. Э. «Богатырская сказка» Н. М. Карамзина // Преподаватель ХХI век. 2012. № 2. С. 373‒378. Текст: непосредственный.
- Радищев Н. А. Альоша Попович, богатырское песнотворение. Москва: Университетская типография, 1801. 108 с. Текст: непосредственный.
- Радищев Н. А. Чурила Пленкович, богатырское песнотворение. Москва: Университетская типография, 1801. 200 с. Текст: непосредственный.
- Соколов А. Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX в. Москва, 1955. 692 с. Текст: непосредственный.
- Федосеева Т. В. О предромантическом характере исторического мышления в русской литературе рубежа XVIII и XIX веков // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2008. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-predroman-ticheskom-haraktere-istoricheskogo-myshleniya-v-russkoy-literature-rubezha-xviii-i-xix-vekov (дата обращения: 20.03.2023). Текст: электронный.
- Херасков М. М. Бахарияна, или Неизвестный. Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок. Москва: Тип. Платона Бекетова. 1803. 480 с. Текст: непосредственный.