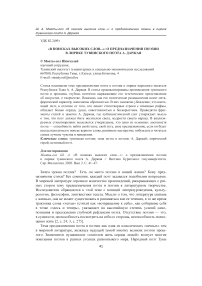«В поисках высоких слов...»: о предназначении поэзии в лирике тувинского поэта А. Даржая
Автор: Мааты-оол Ш. А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теме предназначения поэта и поэзии в лирике народного писателя Республики Тыва А. А. Даржая. В статье проанализированы произведения тувинского поэта и прозаика, глубоко поэтично выражающие его эстетические представления об искусстве, о творчестве. Показано, как его поэтические размышления носят метафорический характер, наполнены образностью. В них заложено убеждение, что настоящий поэт, в отличие от того, кто пишет стихотворные строки с помощью рифмы, обладает болью сердца, души, совестливостью и бескорыстием. Приводятся фрагменты статей и заметок А. Даржая, где публицистический слог утверждает мысль о том, что поэт должен быть носителем света, мудрости своего народа. В анализируемых стихотворениях выделяется утверждение, что одно из основных достоинств поэта - способность найти свой голос, свой путь, свое предназначение, если он будет всегда находиться в поиске верного слова, развивать мастерство, побуждать в читателе самые лучшие чувства и намерения.
Тувинская поэзия, тема поэта и поэзии, а. даржай, лирический герой, истинный поэт
Короткий адрес: https://sciup.org/148317740
IDR: 148317740 | УДК: 82.2(09)
Текст научной статьи «В поисках высоких слов...»: о предназначении поэзии в лирике тувинского поэта А. Даржая
Мааты-оол Ш. А. «В поисках высоких слов…»: о предназначении поэзии в лирике тувинского поэта А. Даржая // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 2. С. 41–47.
Зачем нужна поэзия? Есть ли место поэзии в нашей жизни? Кому предназначены стихи? Без сомнения, каждый поэт задавался подобными вопросами. В мировой литературе огромное количество произведений, раскрывающих с разных сторон тему предназначения поэта и поэзии в литературном творчестве. Исследователи обращаются к этой теме с позиций литературоведения, культурологии, философии, лингвистики текста. Мысли о том, что литература связана с жизнью, она не может существовать и развиваться вне ее течения, в то же время трактовка слова «versus» (стихи) как «возвращение к себе», как собирание себя в точке «здесь и теперь», указывают на высочайшую степень усилий самопознания и преодоления глубокой рефлексии поэта. Отсутствие поэзии — это, в сущности, неспособность посмотреть на себя со стороны, неспособность полноценно жить [2, с. 24; 3, с. 275].
Тема предназначения поэта и поэзии как одна из классических «вечных» тем в мировой литературе, являлась ведущей темой многих великих поэтов прошлого. Знаменитое пушкинское «глаголом жечь сердца людей» волнует многие поколения поэтов в разных уголках разноязыкого мира. Народный поэт Тувы
Э. Б. Мижит пишет, что А. С. Пушкин создал в своих произведениях идеал гармонии жизни, чтобы пробудили в сердцах Любовь, Красоту и Доброту. Это и есть высокая духовная миссия поэта [11, с. 20]. Такое понимание предназначения поэта и поэзии наблюдается у Н. Гумилева, который считал, что задачей поэта является строительство идеального мира через духовное возрождение людей [13, с. 119].
В 1937 г., в самом начале своего творческого пути, С. Б. Пюрбю, будучи одним из первых тувинских литераторов, перевел стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». В своем переводе («Тураскаал» / «Памятник») тувинский поэт изложил мысли о высоком предназначении поэта, в частности о значении поэзии Пушкина для народов России. Как пишет исследователь тувинской литературы У. А. Донгак, в то время, когда С. Б. Пюрбю переводил это произведение, 5-я строфа о божественном предназначении поэта по идеологическим соображениям уже не печаталась в Советской России, была «сокращена». Строки «душа в заветной лире» переведена тувинским поэтом, как «алдар-адым чогаалымда, («мое имя и моя слава как поэта в моих творениях»), что объясняется невозможностью в то время интерпретации поэзии как «нетелесной, более высшей материи» [7, с. 31].
В российском литературоведении тема предназначения поэта и поэзии представлена как системное, целостное, теоретическое представление, а в тувинском — еще никем не затронута. В тувинской культуре, литературе, само понятие «поэт» было нововведением нового социалистического времени. В 1920-е гг. в Туве термин «ыр» («песня») употреблялся вместо «шүлүк» («стихотворение»). Как отмечает Д. Куулар в монографии «Тувинская поэзия» (1970), в становлении и развитии письменной тувинской поэзии особое место принадлежит народной песне. Из всех видов устной поэзии строй народной песни является наиболее постоянной и совершенной стихотворной формой. Во второй половине 1920-х гг. в Туве появился монгольский термин «шулэг», означавший «стих», «стихотворение». В первой половине 1930-х гг., когда зародилась и начала крепнуть поэзия на родном письменном языке, термин «ыр» («песня») был принят и для обозначения стихотворений. По решению литературных кружков и с одобрения Ученого комитета вводится термины «шүлүк» (отувинизированный монгольский термин «шулэг»), «шүлүглел» — «поэма», «шүлүкчү» — «поэт-стихотворец», «шүлүк чогаалы» — «поэзия» [10, с. 20].
С. Б. Пюрбю в своей зрелой лирике слово «стихотворение» называет «песней» («ыр»). Например:
«…ырның сөзү сөстен күштүг
Ынакшылды,
өжээнни-даа кыпсы каапта.
(«Чаңгыс сөс дээш»).
Слова моей песни сильнее слов, они разжигают и любовь, и мщенье...
(«Из-за одного слова») [12, с. 111].
Тема предназначения поэта и поэзии начала раскрываться постепенно тувинской советской литературе и по-особому глубоко в постсоветский период. Поэтические размышления народного писателя Республики Тыва, известного поэта, прозаика, переводчика, лауреата Государственной премии А. А. Даржая о том, что поэт обязан осознавать свою ответственность перед читателями, стали предметом нашего исследования. Размышления о поэзии, предназначении поэта он представил в своем поэтическом творчестве.
Известный тувинский критик А. К. Калзан в статье «Пока не обрету свой голос...» («Үнүм дилээш, тыппаан шаамда...») пишет о том, что А. Даржай в начале своего творчества был известен как тонкий лирик, в основном пишущий о личных переживаниях, о событиях, которые произошли в жизни лирического героя [9]. Спустя 40 лет литературовед У. А. Донгак написала об А. Дар-жае как о сильном представителе тувинской гражданской лирики [8]. По этим отзывам можно заметить развитие его мастерства как художника.
Мысли А. Даржая о поэзии и о предназначении поэта, выраженные в его стихах, выявляют его эстетические представления. Так, он считает, что настоящий поэт должен иметь свой голос: «Бодум хуумда үнүм дилээш, тыппаан шаамда, / поэзияга бердиндим деп санавас мен» (Пока не обрету свой голос, не могу считать себя верным поэзии) [6, с. 5]. По мнению А. Даржая, поэт душою должен быть един со своим народом, должен писать о своем народе, его чаяниях, горестях, радостях малых и великих.
Пока ж звезда судьбы не догорела,
Летят мои мелодии, легки.
Моя душа, о чём бы ни запела, — О вас поет, друзья и земляки.
(«Святая вера», пер. Е. Антуфьева) [5, с. 58].
В другом стихотворении «Наказ поэта» («Шүлүкчүнүң чагыы») поэт А. Дар-жай считает, что без народа поэт — никто и что он должен искать героев своих произведений в самой гуще народа.
А. Даржай убежден, что талант и вдохновение идут от сердца. В переживаниях и мыслях лирического героя отражаются собственные переживания автора, и в этом «возвращении к себе» [В. Бибихин] стихи пишутся собственной кровью, так нелегко они даются. В стихотворении «Связаны навсегда с моей жизнью, моей живой плотью» («Тыным-биле кезээ тудуш») так и говорится: нужно каждую строчку пропустить через свое сердце:.
Стихотворение А. Даржая «Когда размышляю над этим, дивлюсь...» («Бодап-бодап орарымга элдеп апаар...») является очень интересным по смыслу и содержанию и раскрывает читателю тайну рождения стиха. Здесь автор глубоко потичен, когда для выражения своей мысли использует разросшуюся метафору: поэт является матерью младенца, его стихотворение — дитя, поэт чувствует биение сердца своего дитя в утробе матери, рождение своих стихов он уподобляет боли при родах, мучительной, но приносящей великую радость матери. Такое понимание творческого процесса перекликается с мыслями других современных поэтов Тувы.
Написание стихотворения, по ощущению поэтов Э. Б. Мижита и А. С. Бегзин-оола, тоже сравнивается с моментом появления на свет младенца. Например, в стихотворении Э. Б. Мижита «Одетая мысль» («Хепкерген бодал») мысли поэта по воле природы «в свое время» «стремятся на свет», словно дитя, а поэт, как и мать, дающая новую жизнь, должен позаботиться о своем «дитя»: «накормить» мыслями, «одеть» формами, художественными средствами; дать имя [11, с. 50].
Поэтическая метафора А. С. Бегзин-оола также создает образ только что появившегося на свет младенца:
Башта коңгураазы арываан чаш дег,
Бажымда бир-ле бодал улчуй-дур —
Баарымда ак саазын ыглай-дыр.
Словно дитя с теменными корочками,
В моей голове мысль не находит себе места — Предо мною льет слезы чистый лист.
[1, с. 92].
В поэтических произведениях А. Даржая подчеркивается особая связь природы и поэта. В стихотворении «Притяжение родного края» («Ѳскен черим сорунзазы») лирический герой чувствует, как слабый ветерок при восходе солнца, ощущаемый на просторах родной земли, способствуют рождению нового стихотворения.
А. Даржай отмечает также, что настоящий поэт должен быть не только одарен от рождения, но и безгранично предан высокому искусству слова. Поэты всегда в поиске верного слова, развивают свое стихотворное мастерство, ищут новые художественные приемы, изобразительно-выразительные средства, чтобы побудить в читателе самые лучшие чувства и намерения.
Я жизнь провел, склоняясь над листом,
И по ночам гоняясь за словами.
Найдя их, радуюсь, дрожа пером.
Печалюсь, коль оно ушло степями.
Как сокровенно мучалась душа!
Но я на благородный риск охочий.
Нет вещи тяжелей карандаша, И ничего короче долгой ночи.
(«Не ожидаю я от жизни высших благ…», пер. О. Шестинского) [5, с. 163].
Другой пример:
Лишь великим поэтам удавалось порой
Все ж воспеть свои чувства хмельнее вина,
Они ночь напролет до черты заревой
Перлы слов выбирали с душевного дна.
(«Я мечтал написать о любви так…», пер. с тув. О. Шестинского) [5, с. 164].
Еще пример, утверждающий единство жизни и поэзии, поэзии и природы:
В поисках высоких слов
В глухомань лесов
Удалялся я не раз,
Бросив отчий кров.
На хребтах
Саянских гор
Слушал птичий хор
В ясный предрассветный час
У зеркал озер.
(«В поисках высоких слов…», пер. В. Евпатова) [5, с. 5].
А. Даржай утверждает, что звания поэта достойны лишь те, кому доверяет народ, истинные ценители художественного слова, его читатели. Он должен чувствовать высокую оценку читателя как награду и вместе с тем большую ответственность. Так, он заявляет, что читатели, признав его поэтом, щедро вознаградили его своей любовью.
Порою мне трудно представить, что я, мол, поэт,
Высокого имени словно стесняюсь,
Как будто присвоил себе ненароком чужой я предмет
И искренне каюсь, я искренне каюсь…
Ах, сколько страниц исписал я, светло и легко!
Но все же мне боязно
Назвать себя сыном искусства,
Я просто в словесное платье облек свое чувство.
(«Порою мне трудно представить…», пер. О. Шестинского) [5, с. 145].
В этих строках А. Даржай считает, что истинный поэт должен быть наделен совестью и великой скромностью, бескорыстием и преданностью своему пути, своему предназначению. В другом стихотворении автор излагает свою мысль о том, что тот поэт, кто не стремится к богатству, бескорыстно служит искусству, относится к творчеству не как к ремеслу, которым зарабатывают на жизнь, тот понимает его сущность поэзии — она вне материального измерения.
Эти годы, что прожиты мной,
Не промчались ли жизнью пустой?
Я обрел лишь стихи да дырявый карман
В срок, который от Бога мне дан.
(«В пору юности ты мне, чиста и светла…») [5, с. 148].
Тему предназначения поэта и поэзии А. Даржай раскрывает не только в своих поэтических произведениях, но и в заметках о стихах и поэтах. В литературнопублицистическом издании «Завораживающий лад» («Дүлгээзинниг аян»)
в главе «По моему разумению...» («Кара угаан-биле бодаарга...») стихотворения сравниваются с грибами, съедобными и несъедобными. К съедобным он относит те стихотворения, которые смогли затронуть внутренний мир читателя, обогащая его душу, его мировоззрение. К несъедобным — произведения, не признанные читателями. Их он называет словами без мысли и чувств [4]. Как видим, А. Даржай много размышляет над тем, кто есть настоящий поэт, а кто — лишь рифмоплет. Первым он называет того, кто признан народом, вторым — того, кто называет себя поэтом, но пока не нашел себя в писательском деле, не приобрел индивидуальности в поэтическом выражении своих мыслей и чувств.
Поэму «Таңма» («Тамга»), посвященную военной тематике, А. Даржай завершает мыслью о том, что песня является символом начала спокойного и мирного существования:
Ыштыг дайын бажы кадар – бүзүрээр мен, Ыры-шүлүк, ава, чаш төл мөңге чурттаар!»
Я верю, что придет конец войне, /
И песня-поэзия, мать и дитя будут вечно жить на этой земле!)
[6, с. 218].
В этих строках слышится уверенность автора в том, что истинный поэт никогда не умирает и будет жив, покуда живы его творения, пока есть кому читать его стихи. Настоящий поэт найдет своих читателей во все времена и будет «глаголом жечь сердца людей».
Таким образом, по мнению А. Даржая, каждое произведение поэта ценимо народом как духовное богатство, дорого для автора как родное дитя. Размышления о высоком предназначении поэта и поэзии раскрываются им в следующем:
-
- поэт имеет особую связь с природой, и замечает вещи, которые не видят окружающие;
-
- поэты должны писать от сердца, от души и тем самым найти свой голос;
-
- одно из основных качеств поэта — его незапятнанное имя;
-
- поэт должен быть носителем света, мудрости для своего народа и освещать в своих произведениях проблемы народа;
-
- нельзя называть поэтом каждого, кто пишет стихотворные строки, потому что призвание поэта — в признании народом, которое ценится очень высоко.
Список литературы «В поисках высоких слов...»: о предназначении поэзии в лирике тувинского поэта А. Даржая
- Бегзин-оол А. С. Шылгалданың үш үжүүрү: шүлүктер (Три высоты испытаний: стихи). Кызыл: Тув. кн. изд., 2009. 200 с.
- Бибихин В. В. Грамматика поэзии. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. 592 с.
- Быков Д. Л. Вместо жизни. М.: Вагриус, 2006. 463 с.
- Даржай А.А. Дүлгээзинниг аян: шүлүк болгаш шүлүкчүлер дугайында чугаалар (Завораживающий лад: заметки о стихах и поэтах). Кызыл, 2004. 208 с.
- Даржай А. А. Избранное. Поэзия и проза / на рус. яз. Кызыл: «Тываполиграф», 2016. 416 с.
- Даржай А. А. Чогаалдар чыындызы: шүлүктер, шүлүглелдер (Собр. соч.: стихи, поэмы). Кызыл: Тув. кн. издво, 1994. 272 с.
- Донгак У. А. Особенности первых переводных произведений тувинской литературы // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. №7–1 (85). С. 29–33.
- Донгак У. А. Хамааты туруштуң чогаалчызы (Писатель-гражданин) // Шын. 2015. № 62. 9 июня. С. 10–11.
- Калзан А. К. Үнүм дилээш, тыппаан шаамда... (Пока не обрету свой голос) // Улуг- Хем. № 40. Кызыл, 1978. С. 241–243.
- Куулар Д. С. Тувинская поэзия. Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1970. 140 с.
- Мижит Э. Б. Бѳдүүн одуруглар: шүлүктер болгаш шүлүглелдер (Простые строки: стихи, поэмы). Кызыл: Тув. кн. изд-во, 2006. 336 с.
- Пюрбю С. Б. Чогаалдар чыындызы (Собрание сочинений). Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1973. 616 с.
- Родина Р. А. Тема поэта и поэзии у Гумилеа // Лучшая научная статья-2019: сб. ст. XXIV междунар. науч.-исслед. конкурса. Пенза, 2009. С. 119–121.