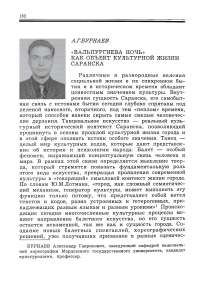"Вальпургиева ночь" как объект культурной жизни Саранска
Автор: Бурнаев Александр Гаврилович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 2 (51), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются фрагменты балета «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» как концепции культурной жизни Саранска, а также предметы и принципы постановочной работы. Анализируется построение фактуры танца, использование характерных движений драматической композиции «старой» хореографии, а также современные тенденции.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222166
IDR: 147222166
Текст научной статьи "Вальпургиева ночь" как объект культурной жизни Саранска
«ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ» КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ САРАНСКА
Различные и разнородные явления социальной жизни в их синхронном бытии и в историческом времени обладают ценностным значением культуры. Внутренняя сущность Саранска, его самобыт ная связь с истоками бытия сегодня глубоко спрятаны под пеленой наносного, вторичного, под тем «пеплом» времени, который способен навеки скрыть самые смелые человеческие дерзания. Танцевальное искусство — реальный культурный исторический контекст Саранска, позволяющий проникнуть в основы прошлой культурной жизни города и в этой сфере опознать истоки особого значения. Танец — целый мир культурных кодов, которые дают представление об истории и психологии народа. Балет — особый феномен, выражающий концептуальную связь человека и мира. В рамках этой связи определяется мышление творца, который стремится показать фундаментальную роль этого вида искусства, превращая проявления современной культуры в «говорящий» смысловой контекст жизни города. По словам Ю.М.Лотмана, «город, как сложный семиотический механизм, генератор культуры, может выполнять эту функцию только потому, что представляет собой котел текстов и кодов, разно устроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням»1 Происходящие сегодня многочисленные культурные процессы меняют направление балетного искусства, но его сущность остается неизменной, так же как и сущность города. Создание новых балетных спектаклей, хореографических решений, уже получивших признание в разных сценичес-
БУРНАЕВ Александр Гаврилович, заведующий кафедрой национальной хореографии Мордовского государственного университета, кандидат культурологии, профессор.
ких версиях как в нашей стране, так и за рубежом, было одним из ведущих направлений в формировании первого репертуара саранского балета.
«Вальпургиева ночь» была поставлена в Париже в 1869 г. как заключительный балетный акт оперы «Фауст» Ш.Гуно. Более ста лет он не сходит со сцен музыкальных театров мира, в Саранске осуществлен впервые на сцене Зимнего театра в 1938 г. Л.И.Колотневым. Танцевальный цех театра совместно с его руководителем упорно трудился над созданием сложного хореографического произведения. «Вальпургиева ночь» отразила важный экспериментаторский этап в развитии балетного искусства Мордовии. Как и в любом эксперименте, постановочные просчеты были не исключены: они помогали накапливать эмпирический опыт современных тем средствами танца. Саранские эксперименты носили всесторонний характер: поиски шли не только в области содержания, но и синтеза хореографической формы. Теоретических обоснований этой проблемы еще не существовало, а практики мордовского театра не имели опыта, который мог бы вывести их на современный путь развития балета. Поэтому несложная по идейно-художественному содержанию музыка для одноактного балета не предполагала воплощения глубокого философского подтекста. В интерпретации Л.И.Колотнева, по мнению критиков, она удачно раскрывалась рядом эффектных хореографических композиций, которые, не требуя особого академизма исполнения, в меру темперамента каждого танцовщика, создавали настроение любовной неги и страсти. Балетмейстеру удались остроумные комические и лирические эпизоды. Он как бы воскресил условную хореографическую вакханалию французского оперного театра, корректно обойдя опасности излишней стилизации, демонизма и эротики. Поэтому на сцене Мордовского театра оперы и балета в день премьеры царила жизнерадостная атмосфера талантливой коллективной импровизации постановщика и молодых исполнителей.
Метод формально-исторической интерпретации был принципиально верным, позволял сохранить основные компоненты «старой» классической хореографии, составляющие художественную ценность балетного акта и идейно- образное содержание музыки. Принципы осмысления современной эпохи несли в себе черты и приемы новой хореографической режиссуры в балетном искусстве. Теоретическое осмысление исполнительской практики подкреплялось конкретными примерами импровизации, в этой области проводился ряд экспериментов. Они как знаки, коды культуры способствовали воплощению современных тем, давали возможность пластическими средствами утверждать жанры, решали проблему сохранения ценностей мировой хореографической культуры.
Отличительной чертой балетного искусства Мордовии второй половины XX в. является создание неординарных сценических решений в «старых» хореографических постановках. А.И.Уманский поставил новую версию балета «Вальпургиева ночь» в 1964 г. на сцене Мордовского музыкального театра. Ее участники отмечали, что это была новая школа — лаборатория прошлой хореографической интерпретации, отдельные сцены увлекали своей красочностью и динамикой танцев. Выразителен и точен был их стиль, согласованный с современным прочтением оригинала. Балет получил благожелательные отклики: с большим вкусом были исполнены танцы, выдержанные в стиле времени. Танцевавшая Чертенка Ю.П.Муринская, делала головокружительные пируэты, исполняла сложнейшие 32 фуэте на пальцах. «Вакханалию» танцевали артисты балета, владеющие секретами профессионального танцевального искусства — Н.Хожателева, Г.Кривулина, Н.Носова, Н.Задумки-на, Я.Мироненко, а сольные номера выразительно и пластично исполняли солисты балета — В.Малиновская, А.Уманский, М.Никифоров, В.Черноярова, Н.Холенков2 Они смогли языком неоклассического танца передать характер незамысловатой хореографии. Постановщик таким приемом воссоздал образ балетного акта в опере, возвращая ему первоначальный вид, и что особенно важно, балет получал при этом современное звучание. «Но если исполнители главных партий от спектакля к спектаклю совершенствовали свое мастерство, обогащали каждое последующее выступление новыми нюансами, то танцы кордебалета постепенно утратили свою художественную силу и теряли смысл»
з
Действие «Вальпургиевой ночи» происходило на фоне черного бархата. Именно такой цвет, а не условно-античный пейзаж подчеркивал гармонию скульптурных поз, графическую четкость и логику композиций. Ничто в этих танцах не напоминало стилизованной в романтическом духе ночи любви. Логическая выстроенность скульптурных линий, лаконизм в выборе выразительных средств подчеркивали рационалистическое пластическое начало. Он получал свое развитие в сольных танцах фавнов, нимф, Вакха и Вакханки. Исполнялся своеобразный пластический концерт, сочиненный по законам контрапункта и симфонического развития. Дансантная — танцевальная, ярко эмоциональная музыка составляла лишь канву, по которой постановщик «вышивал» хореографический узор (сочинял и танцевал). Тема балетного спектакля оставалась той же — прославление любви, но сквозь призму танцевального интеллекта она была выражена не прямо и откровенно, а косвенно, как бы отстраненно.
Исполнение такого балета требует методики, эмоциональной энергетики, артистического таланта, умения подчинить себя строгим правилам классической школы. Сложность заключалась в освещении эмоционального и рационального начала, их акценты в танце должны быть представлены одинаково рельефно. Немалую трудность составлял текст сольных партий, требовавший от танцовщика академизма и безупречной координации движений корпуса, рук, головы, свободного владения техникой виртуозного танца и умения преподносить его в современной манере.
Адажио Вакха и Вакханки насыщено комплексом движений, подчеркивающих любовный экстаз. Партия Вакханки стала одной из центральных в балете: высокие мягкие поднимания ног, эластичные прыжки, воздушные вращения, различные туры и просто обычные переступания на пальцах были сочинены постановщиком так, что танец пронизывала зовущая откровенная чувственность. Центральная мужская партия Вакха была «выписана языком» академических форм классического танца, но не округленных, а «диких» — угловатых. Лейтдвижения вариации Вакха составляли острые линии ног, в них не было резкости танца, но фиксация прямых горизонтальных и вертикаль- ных линий рождала ощущение рационалистической четкости пластики, своего рода модерн.
Яркие женские и мужские партии балета позволяли артистам проявлять индивидуальное мастерство и стиль. Трудной для исполнения оказалась партия Фавна. Большие прыжки в быстром темпе неожиданно сменялись вращениями, заканчивались скульптурной позой с красивым, точным положением корпуса. В основу вариации были положены силуэтные контуры поз, вырисовывающие в графической манере гротесковый образ Фавна. Нимфа танцевала лирический дуэт с Аполлоном. После бурных танцев сатиров и вакханок вносилось некоторое умиротворение через обволакивающую мелодию и графическую ясность движений.
В конце XX в. вопрос о восстановлении классического балетного репертуара, его переосмыслении ведущими мастерами хореографического искусства России решался по-разному. В.Шкловский предлагал свой вариант отношения к наследию искусства, а также как по-новому применять старые модели при создании нового. «Искусство двигается, изменяясь. Оно изменяет свои методы, но прошлое не исчезает»4
Простая трактовка балета «Вальпургиева ночь» позволяет вносить в него хореографические ремарки, свои пластические решения. Л.Н.Акинина (балетмейстер Мордовского музыкального театра им. И.М.Яушева) по методу формальной интерпретации «старого» в 1993 г. создает свою версию балета. Этот вариант давал положительный результат в пластическом решении современной хореографии и представлял искусствоведческий интерес. Автор методом профессиональной подготовки артистов, новыми пластическими принципами танцевального искусства стремится «связать» в одно целое обновленные и разъединенные звенья времен с актерской игрой, тем самым демонстрируя балетный концепт как своеобразный образец культуры.
Идея хореографического спектакля вне оперы видоизменилась, как и в предыдущих редакциях, но тема любви осталась. Она выражена хореографом прямо, нарочито и откровенно. Такая интерпретация трактовки произведения определяла в значительной степени суть композиционной фабулы, в которой концертный стиль исполнения стал основой пластической структуры балета. Вся лесная нечисть собралась на шабаш. Вместе с греческими богами (Пан — хозяин лесов (Н.Ленчевский), Вакханка (Л.Игоше-ва), Вакх (В.Конов)) веселились страстные хмельные Менады и их неизменные друзья Сатиры. Постановщик юному влюбленному Вакху придал пластический экстаз, сочинил красавице Вакханке стильные танцы и усложнил их технически, выделил каждое движение тела исполнителей, которое дышало страстью. Вакх правильными линиями своего тела подавал каждое движение напоказ, экспрессивно подчеркивал красоту форм «чистого» танца. Пан, не заботясь о красоте и форме движений, выдвигал на первый план половую мужскую силу, оригинальным приемом в трактовке хореографического образа оправдывая замысел постановщика.
По мнению Л.Н.Акининой, «Вальпургиева ночь» своим бессюжетием должна была подчеркнуть пластическое содержание представленных образов в спектакле, где ввод в тему должен был проходить через малочисленную, но мобильную выразительную труппу балета. Идея редакции состояла из среза взаимоотношений балетных артистов и показа их достоинств, скрытия недостатков: т.е. на фоне всепонимающего кордебалета была представлена конкуренция образов ведущих артистов балета — премьер (Пан), молодой солист (Вакх), абсолютная прима (Вакханка). По мнению балетмейстера, партии были выразительны, живописны, эмоциональны, музыкальны, солисты делали «большую классическую школу» интересно, с фантазией, выдумкой и страстной энергетикой. Эта артистическая тройка красивых танцоров демонстрировала в спектакле высокие профессиональные исполнительские качества, которые проявлялись через различные хореографические приемы и музыкально-пластическую партитуру. Эротика на сцене представлена незначительно — столько, сколько ее в классической музыке Ш.Гуно — она была наивной, чистой и балетной. Постановщик сознательно сохранил стилистику оперного спектакля в редакции Л.М.Лавровского, но частично в оригинал пластики внедрил прыжки, сложную пальцевую технику, акробатичные поддержки и вращения с «заворотами». Л.Н.Акинина отмечала, что «это был симпатичный дивертисмент во славу мордовского балета».
Таким образом, постановки «Вальпургиевой ночи» связаны с именами, они как знаки-коды танцевального искусства формируют представление об истории культурной жизни города, оказывают влияние на внутренний мир человека, одновременно выполняют соединяющую функцию культурного концепта. Новые постановочные факты трактуются в современной хореографии как тенденция неоклассического направления, помогают осваивать и демонстрировать танец на другом уровне его развития. Танец как эквивалент актуализирует исторический концепт, отражает его понятие и входит в онтологическую составляющую культурной жизни города. Приведенные примеры, методы, приемы, принципы режиссуры, текст танца способствуют осуществлению новых редакций и других неадекватных версий балета в XXI в. Формально-исторический метод позволяет «связать» на практике характерные приемы «старой» драматургии с методом интерпретации танца и в новом качественном их варианте представить «Вальпургиеву ночь».
Список литературы "Вальпургиева ночь" как объект культурной жизни Саранска
- Лотман Ю.М. Механизмы культуры // Избр. ст.: В 3 т. Т. 3. Статьи по истории русской литературы. Теория и семиотика других искусств. Механизмы культуры. Мелкие заметки. Таллин, 1993. С. 325. 2
- Петров А. «Фауст» // Мол. ленинец. 1964. 1 апр. 3
- Зайчиков 3. «Фауст» на мордовской сцене // Сов. Мордовия. 1964. 26 марта. *
- Цит. по: Тейдер В. У истоков советского балета // Советский балет. 1982. № 2. С. 22.