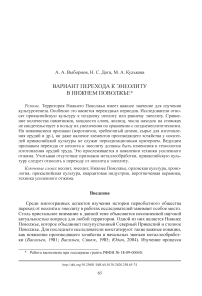Вариант перехода к энеолиту в Нижнем Поволжье
Автор: Выборнов А.А., Дога Н.С., Кулькова М.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: От камня к бронзе
Статья в выпуске: 258, 2020 года.
Бесплатный доступ
Территория Нижнего Поволжья имеет важное значение для изучения культурогенеза. Особенно это касается переходных периодов. Исследователи относят прикаспийскую культуру к позднему неолиту или раннему энеолиту. Сравнение количества памятников, мощности слоев, жилищ, числа находок на стоянках не свидетельствует в пользу их увеличения по сравнению с поздненеолитическими. Ни появившиеся признаки (воротничок, гребенчатый штамп, сырье для изготовления орудий и др.), ни даже наличие элементов производящего хозяйства у носителей прикаспийской культуры не служат периодизационным критерием. Ведущим признаком перехода от неолита к энеолиту должны быть изменения в технологии изготовления орудий труда. Это прослеживается в появлении техники усиленного отжима. Учитывая отсутствие признаков металлообработки, прикаспийскую культуру следует относить к переходу от неолита к энеолиту.
Неолит, энеолит, нижнее поволжье, орловская культура, хронология, прикаспийская культура, кварцитовая индустрия, воротничковая керамика, техника усиленного отжима
Короткий адрес: https://sciup.org/143171231
IDR: 143171231
Текст научной статьи Вариант перехода к энеолиту в Нижнем Поволжье
Среди многогранных аспектов изучения истории первобытного общества переход от неолита к энеолиту в работах исследователей занимает особое место. Столь пристальное внимание к данной теме объясняется несомненной научной актуальностью вопроса для любой территории. Одной из них является Нижнее Поволжье, которое объединяет полупустынный Северный Прикаспий и степное Поволжье. Для последнего исследователи констатируют такие важные новации, как появление производящего хозяйства и начальных звеньев металлообработки ( Васильев , 1981; Васильев, Синюк , 1985; Юдин , 2004). Изучение процесса
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-09-00040.
перехода от неолита к энеолиту на интересуемой территории явилось одним из наиболее сложных вопросов из-за качественного состояния источниковой базы. Количество исследованных памятников позднего неолита – раннего энеолита в Нижнем Поволжья явно уступало таковым в лесном Волго-Камье или Волго-Окском междуречье. Поэтому у исследователей появились различные точки зрения на периодизационное место стоянок одного типа. Одни специалисты прикаспийскую культуру рассматривали как поздненеолитическую ( Мелентьев , 1976), другие относили ее к раннему этапу энеолита ( Васильев , 1981), третьи выделяли стоянки с воротничковой керамикой в отдельный культурный тип, синхронный хвалынской культуре ( Барынкин , 1992. С. 21). Раннеэнеолитический характер прикаспийской культуры аргументировали и другие авторы ( Юдин , 1995; 2012; Моргунова , 1995; 2011). В то же время В. В. Ставицкий поддержал точку зрения А. Н. Мелентьева о поздненеолитической позиции мариупольских древностей, а энеолитизацию связывает с хвалынской культурой ( Ставицкий , 2013. С. 32, 33). Высказывалась версия о том, что ранние памятники прикаспийской культуры сосуществуют с поздненеолитическими комплексами, а поздние соотносятся с раннеэнеолитическими ( Выборнов , 2008. С. 57–62). Эта позиция сходна с интерпретацией азово-днепровской культуры, которую описывает Н. С. Котова ( Котова , 2002). Цель данной статьи – обоснование выделения переходного периода от позднего неолита к раннему энеолиту в Нижнем Поволжье.
Материалы и обсуждение
Противоречия, которые возникли среди исследователей при изучении материала прикаспийской культуры, в значительной мере определяются некоторой размытостью границ и отсутствием четких, именно археологических, диагностических различителей. Поскольку на памятниках прикаспийской культуры до сих пор не обнаружены медные изделия, то пока отсутствуют доказательства знакомства носителей прикаспийской культуры с металлообработкой. Следует обсудить контекст, связанный с медной пластиной на Варфоломеевской стоянке ( Юдин , 2004; Котова , 2014). Она обнаружена в слое 2А, в котором представлена керамика только позднего этапа орловской неолитической культуры. По мнению автора раскопок, это изделие может быть связано только с хвалынской культурой, хотя в этом насыщенном артефактами слое нет посуды этого типа ( Юдин , 2006. С. 37). Уместно напомнить, что керамика прикаспийского типа залегает выше. Исходя из этого, на данном памятнике допустимо констатировать отнесение к энеолиту находок слоя 2А (поздний этап орловской культуры) и верхнего слоя, причем прикаспийская культура оказывается более поздней, чем хвалын-ская. Эта конструкция противоречит стратиграфическим данным о соотношении прикаспийской и хвалынской культур на поселении Кумыска ( Юдин , 2012). Следует отметить, что предположения А. И. Юдина опирались на радиоуглеродные даты, но их было очень мало и часть из них (особенно для слоя 2А) противоречила археологической периодизации неолита – энеолита данного региона. За последние 12 лет ситуация коренным образом изменилась, так как по интересуемым комплексам получена значительная серия дат по различным материалам
(В ыборнов, Ойнонен и др., 2016). Для находок слоя 2А хроноинтервал укладывается в рамки не моложе 6300 лет назад (далее – л. н.) (около 5500 лет до н. э.). Но это на 300 лет древнее нижнего предела хвалынской культуры. Поэтому связывать находку медной пластины в слое 2А с носителями хвалынской культуры весьма проблематично. Нельзя исключать ее попадание в этот слой из верхнего уровня в результате нарушения слоя более поздними обитателями стоянки. Ведь кроме достаточно чистых стратиграфических разрезов, которые сделали Варфоломеевскую стоянку эталонной, автор раскопок отмечает наличие и поздних конструкций, на некоторых участках прорезавших нижние слои (Юдин, 1998). В таком случае комплекс слоя 2А не следует относить к энеолиту. Что касается верхнего слоя, то для керамики орловской культуры есть дата – 5800 л. н. (около 4700 лет до н. э.) (Выборнов, Юдин и др., 2016б). Если она валидна, то новые данные подтверждают гипотезу А. И. Юдина о синхронности на определенном этапе орловской, прикаспийской и хвалынской культур (Юдин, 2013). Аргументация может быть дополнена не только датой 5800 л. н. для прикаспийской керамики поселения Кумыска (Юдин, 2012), но и датами, полученными для поселения Орошаемое I – 5800 л. н. (Выборнов, Юдин и др., 2016а). Но является ли синхронность доказательством взаимодействия культур? Тем более, что зафиксировать точные даты периодов синхронности существования древних сообществ не всегда представляется возможным, опираясь на радиоуглеродное датирование. К тому же есть памятники прикаспийской культуры, которые датируются более ранним временем, чем 6000 л. н. (около 4900 лет до н. э.), т. е. дохвалынским. Иначе говоря, по основному признаку археологической периодизации прикаспийскую культуры относить к энеолиту оснований нет. Можно попытаться найти признаки иного порядка. Если обратиться к лесному Волго-Камью, то на памятниках гаринской или волосовской культуры исследователи фиксируют, по сравнению с поздним неолитом, ряд существенных отличий. Это увеличение количества памятников, площади поселений, мощности культурного слоя, разнообразных находок, жилищных сооружений (Никитин, 2017). Прослеживаются ли эти показатели у носителей прикаспийской культуры? Если сравнивать количество поздненеолитических памятников тентексорского типа и прикаспийской культуры, то оно почти одинаково. Площадь стоянки Тентек-сор (Васильев и др., 1986) превышает размер прикаспийской стоянки Курпеже-молла (Барынкин, Васильев, 1985). Мощность культурного слоя на Тентексоре больше, а количество посуды превышает число керамики на Курпеже-молла в десятки раз. В отличие от последнего на Тентексоре есть жилище. Таким образом, по вышеперечисленным признакам каких-то качественных изменений не прослеживается. Севернее, в степном Поволжье, количество неолитических и раннеэнеолитических памятников также не отличается. Судя по раскопам на стоянках Варфоломеевская и Алгай, площадь неолитической стоянки значительно превышает прикаспийскую (Юдин, 2004; Юдин и др., 2016). Что касается мощности культурного слоя, то А. И. Юдин отмечает ее увеличение в энеоли-тическое время (Юдин, 2012. С. 72). Но в данном случае следует учитывать, что памятники с культурным слоем только прикаспийской культуры единичны. Следует обратить внимание на одну немаловажную деталь. При раскопках гомогенного слоя прикаспийской культуры на поселении Орошаемое I прослежено его залегание в почве, образовавшейся в период увеличения увлажненности. Но артефакты приурочены не ко всей толще почвы, а концентрируются только в ее верхней части (Выборнов, Юдин и др., 2016а; Выборнов и др., 2017). Иначе говоря, мощность культурного слоя значительно меньше мощности почвы. Если ее сравнивать с мощностью поздненеолитических слоев Варфоломеевской стоянки (2А) и верхнего слоя стоянки Алгай, то можно констатировать их явное преобладание над прикаспийскими. Относительно количества находок в культурных слоях прикаспийской культуры для сравнения можно привести следующие данные: в слое 2А обнаружено 353 неолитических венчика, а в верхнем – 4 прикаспийских; столько же на стоянке Озинки II (Лопатин, 1989. С. 138, 139); не более десятка сосудов на поселениях Кумыска (Юдин, 2012. С. 123) и Орошаемое I (Там же. С. 153; Выборнов и др., 2018. С. 216). В то же время поздненеолитический слой стоянки Алгай содержит более 300 фрагментов. Аналогичная ситуация и с каменным инвентарем. Если сопоставлять жилищные постройки, то они хорошо представлены в позднем неолите орловской культуры (Юдин, 2004. С. 18, 19). Что касается прикаспийской культуры, то автором весьма условно оговаривается конструкция на Озинках II (Лопатин, 1989. С. 136, 137). Ее очень крупные размеры и крайне малое количество керамики (не исключено, разновременной) дают основание присоединиться к обоснованно осторожному подходу В. А. Лопатина.
Таким образом, допустимо констатировать, что по целому ряду показателей не удается проследить количественный и качественный рост в рамках прикаспийской культуры по сравнению с поздним этапом неолитической орловской.
При разработке энеолитического характера прикаспийской культуры исследователи оперируют и другими признаками. Во-первых, это воротничковое утолщение на внешней стороне венчика. Может ли считаться воротничок энео-литическим признаком, если аналогичные формы представлены в кошкинской культуре раннего неолита Зауралья ( Крижевская , 1977. Табл. ХVIII: 8 ) и на ряде культурных типов неолита Западной Сибири? Воротничок есть и на посуде рязанской культуры ( Ставицкий , 2008. С. 355–360), и на сосудах балахнинского типа в лесном Среднем Поволжье ( Никитин , 2015). Но в таком случае поздний этап культуры ямочно-гребенчатой керамики следует определять энеолитом.
Что касается каменного инвентаря, то все исследователи отмечают доминирование в прикаспийских комплексах кварцитового сырья. Однако может ли быть периодизационным критерием сырье для изготовления артефактов? Оно появляется в орловских комплексах, причем даже на раннем этапе ( Выборнов и др ., 2015. С. 240). Но это единичные проявления. Если же обратиться к прикаспийским памятникам с достаточно гомогенными комплексами ( Выборнов и др. , 2018. С. 219–221), то доминанта кварцитового сырья невольно порождает вариант ответа: в конце неолита иссякли источники кремня, и им на смену пришла иная, но каменная основа. Первый вариант маловероятен. Более серьезным можно рассматривать смену в прикаспийских материалах заготовок для изготовления орудий труда: их получают с помощью техники усиленного отжима, истоки которой не прослеживаются в предшествующее время.
Весьма примечательны находки синкретической керамики, сочетающей на-кольчатый способ нанесения орнамента и воротничковое утолщение венчика.
Она обнаружена в верхнем слое поселения Джангар ( Кольцов , 2005. С. 321), на стоянке Же-калган I ( Барынкин, Васильев , 1985), в верхнем слое Варфоломеевской стоянки. Иначе говоря, это свидетельство взаимодействия местного неолитического и прикаспийской культуры. Определить время этих контактов можно по датам – 6500 л. н. (около 5470 лет до н. э.) ( Андреев и др. , 2016) для этих комплексов. Это значение намного древнее, чем возраст хвалынцев и поздних прикаспийцев. Системное сочетание воротничков и рядов шагающей гребенки, обрамленной прочерками, достаточно четко проявляется на втором этапе нижнедонской культуры ( Кияшко , 1994. С. 91. Рис. 5) и фиксируется 6700–6200 л. н. (около 5630–5100 лет до н. э.) ( Котова , 2002). Это время, сходное с возрастом стоянки Буровая 41, на которой обнаружены кварцитовые изделия на массивных заготовках. Иначе говоря, судя по радиоуглеродным датам, памятники прикаспийской культуры, не содержащие следов металлообработки, фиксируются около 6500 л. н. (около 5470 лет до н. э.).
Относительно производящего хозяйства можно констатировать, что в Северном Прикаспии кости овцы обнаружены на стоянке прикаспийской культуры Курпеже-молла ( Vybornov еt al. , 2015; 2018; Выборнов и др. , 2019) около 6100 л. н. (около 5000 лет до н. э.), т. е. раньше, чем у хвалынцев. Однако и в это время металл известен еще не был.
Заключение
Таким образом, в период 6700–6500 л. н. (5630–5470 лет до н. э.) на юге Нижнего Поволжья прослеживаются процессы, связанные с появлением прикаспийской культуры. По количеству памятников, мощности культурных слоев, количеству находок, наличию жилищ она не отличается от неолитических. Есть признаки ее взаимодействия с носителями местных неолитических культур. В то же время фиксируется изменение технологии изготовления каменных орудий труда и появление производящего хозяйства. Учитывая отсутствие доказательств наличия металлообработки у населения интересуемой территории, данный этап, представленный прикаспийской культурой, допустимо обозначить как переходный от неолита к энеолиту, а к следующему за ним энеолитическому этапу относится уже хвалынская культура.
Список литературы Вариант перехода к энеолиту в Нижнем Поволжье
- Андреев К. М., Барацков А. В., Выборнов А. А., Кулькова М. А., Ойнонен М., Посснерт Г., Медоуз Д., ван дер Плихт Й., Филиппсен Б., 2016. Новые радиоуглеродные даты неолитических и энеолитических памятников Поволжья и Подонья // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 18. № 3 (2). С. 155-163.
- Барынкин П. П., 1992. Энеолит и ранняя бронза Северного Прикаспия: автореф. дис. … канд ист. наук. М. 26 с.
- Барынкин П. П., Васильев И. Б., 1985. Новые энеолитические памятники Северного Прикаспия // Археологические памятники на европейской территории СССР / Отв. ред. А. Т. Синюк. Воронеж: Воронежский гос. пед. ин-т. С. 58-73.
- Васильев И. Б., 1981. Энеолит Поволжья. Степь и лесостепь. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. 130 с.
- Васильев И. Б., Выборнов А. А., Козин Е. В., 1986. Поздненеолитическая стоянка Тентексор в Северном Прикаспии / Отв. ред. Н. Я. Мерперт. Древние культуры Северного Прикаспия. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. С. 6-31.
- Васильев И. Б., Синюк А. Т., 1985. Энеолит Восточно-Европейской лесостепи. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т, 117 с.
- Выборнов А. А., 2008. Неолит Волго-Камья. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. 490 с.
- Выборнов А. А., Косинцев П. А., Кулькова М. А., Дога Н. С., Платонов В. И., 2019. Время появления производящего хозяйства в Нижнем Поволжье // SP. № 2. С. 359-368.
- Выборнов А. А., Ойнонен М., Дога Н. С., Кулькова М. А., Попов А. С., 2016. О хронологическом аспекте происхождения производящего хозяйства в Нижнем Поволжье // Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 21. № 3. С. 6-13.
- Выборнов А. А., Юдин А. И., Васильева И. Н., Косинцев П. А., Кулькова М. А., Гослар Т., Дога Н. С., 2015. Новые данные по неолиту-энеолиту Нижнего Поволжья // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 17. № 3. С. 235-241.
- Выборнов А. А., Юдин А. И., Васильева И. Н., Косинцев П. А., Кулькова М. А., Дога Н. С., Попов А. С., 2016а. Исследования поселения Орошаемое в Нижнем Поволжье // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 18. № 3. С. 140-145.
- Выборнов А. А., Юдин А. И., Васильева И. Н., Косинцев П. А., Кулькова М. А., Дога Н. С., Попов А. С., 2017. Новые материалы исследований на поселении Орошаемое в Нижнем Поволжье // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 19. № 3. С. 185-190.
- Выборнов А. А., Юдин А. И., Васильева И. Н., Косинцев П. А., Дога Н. С., Попов А. С., Платонов В. И., Рослякова Н. В., 2018. Новые результаты исследований поселения Орошаемое в Нижнем Поволжье // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 20. № 3. С. 215-222.
- Выборнов А. А., Юдин А. И., Кулькова М. А., Гослар Т., Посснерт Г., Филиппсен Б., 2016б. Радиоуглеродные данные для хронологии неолита Нижнего Поволжья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII-III тыс. до н. э. Смоленск: Свиток. С. 59-70.
- Кияшко В. Я., 1994. Между камнем и бронзой. Азов: Азовский краевед. музей. 132 с. (Донские древности; вып. 3.)
- Кольцов П. М., 2005. Мезолит и неолит Северо-Западного Прикаспия. М.: Воскресенье. 352 с.
- Котова Н. С., 2002. Неолитизация Украины. Луганск: Шлях. 268с.
- Котова Н. С., 2014. Переход от неолита до энеолита в степях Восточной Европы и связанные с ним инновации//Самарский научный вестник. № 4 (9). С. 65-75.
- Крижевская Л. Я., 1977. Раннебронзовое время в Южном Зауралье. Л.: Ленинградский гос. ун-т. 158 с.
- Лопатин В. А., 1989. Стоянка Озинки II в Саратовском Заволжье // Неолит и энеолит Северного Прикаспия / Отв. ред. Н. Я. Мерперт. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. С. 135-146.
- Мелентьев А. Н., 1976. Памятники неолита Северного Прикаспия (памятники прикаспийского типа) // Проблемы археологии Поволжья и Приуралья / Отв. ред. Н. Я. Мерперт. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т. С. 13-14.
- Моргунова Н. Л., 1995. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. 222 с.
- Моргунова Н. Л., 2011. Энеолит Волжско-Уральского междуречья. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. 220 с.
- Никитин В. В., 2015. Культура носителей посуды с гребенчато-ямочным орнаментом в Марийском Поволжье. Казань: Казанская недвижимость. 361 с.
- Никитин В. В., 2017. На грани эпохи камня и металла. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т. 264 с.
- Ставицкий В. В., 2008.Проблема сложения рязанского варианта культуры ямочно-гребенчатой керамики // Человек, адаптация, культура / Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.; Тула: Гриф и К. С. 353-362.
- Ставицкий В. В., 2013. К вопросу о выделении нео-энеолитической эпохи в Поволжье//Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы / Отв. ред. Е. А. Черленок. СПб.: Скифия-принт. С. 31-33.
- Юдин А. И., 1995. Неолит и энеолит степного Заволжья: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 16 с.
- Юдин А. И., 1998. Орловская культура и истоки формирования степного энеолита Заволжья // Проблемы древней истории Северного Прикаспия / Отв.ред. И. Б. Васильев. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 83-105.
- Юдин А. И., 2004. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. Саратов: Саратовский гос. ун-т. 200с.
- Юдин А. И., 2006. Культурно-исторические процессы в эпохи неолита и энеолита на территории Нижнего Поволжья: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Ижевск. 46 с.
- Юдин А. И., 2012. Поселение Кумыска и энеолит степного Поволжья. Саратов: Научная книга. 212 с.
- Юдин А. И., 2013. Периодизация и хронология энеолита степного Поволжья // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы / Отв. ред. Е. А. Черленок. СПб.: Скифия-принт. С. 26-30.
- Юдин А. И., Выборнов А. А., Васильева И. Н., Косинцев П. А., Кулькова М. А., Гослар Т., Филиппсен Б., Барацков А. В., 2016. Неолитическая стоянка Алгай в Нижнем Поволжье // Самарский научный вестник. № 3 (16). С. 61-68.
- Vybornov А., Kosintsev Р., Kulkova М., 2015. The оrigin of farming in Lower Volga Region // Documenta Praehistorica. XLII. P. 67-75.
- Vybornov A., Kulkova M., Kosintsev P., Platonov V., Platonov S., Phillipsen B., NesterovE., 2018. Dietand Chronology of Neolithic-Eneolithic Cultures (from 6500 to 4700 CalBC) in The Low Volga Basin // Radiocarbon. No. 6. P. 1597-1610.