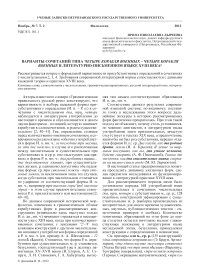Варианты сочетаний типа четыре корабля военных - четыре корабля военные в литературно-письменном языке XVIII века
Автор: Дьячкова Ирина Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о формальной вариативности присубстантивных определений в сочетаниях с числительными 2, 3, 4. Требования современной литературной нормы сопоставляются с данными языковой теории и практики XVIII века.
Словосочетания с числительными, грамматическая вариативность, русский литературный язык, историческое развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/14751378
IDR: 14751378 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Варианты сочетаний типа четыре корабля военных - четыре корабля военные в литературно-письменном языке XVIII века
Авторы известного словаря «Грамматическая правильность русской речи» констатируют, что вариативность в выборе падежной формы при-субстантивного определения (И. п. – Р. п.) в сочетании с числительными два , три , четыре наблюдается в литературном употреблении до настоящего времени и обусловливается в целом двумя факторами – позицией, которую занимает атрибутив в словосочетании, и родом существительного [2; 40–41]. Так, определение, стоящее перед количественно-именным сочетанием, в современном русском языке «обычно употребляется в форме И. п. мн. ч.: за последние три месяца , за эти две недели »; в случае его расположения между числительным и существительным при субстантивах м. и ср. р. оно «выступает, как правило, в форме Р. п. мн. ч.: два разбитых ящика… два двухэтажных здания », при существительных же жен. р. одинаково допустимы обе падежные формы: ср. три столовых ложки – три столовые ложки , за исключением лишь тех случаев, когда субстантив при числительном отличается по ударению от соответствующей формы И. п. мн. ч., например три высоких горы' (но! высокие гóры ) – в этом случае предпочтительнее становится Р. п. прилагательного или местоимения [2; 40–41].
По данным современной исторической морфологии, изменения в грамматическом облике атрибутивных форм в рассматриваемых конструкциях (изначально здесь выступал только И. п. дв., мн. ч.) начинают отражаться в письменности уже с XIII века, когда при количественноименных сочетаниях с лексемами ‘2’–‘4’ под влиянием конструкций с другими числительными начинают употребляться формы определений в Р. п. мн. ч. (см. пример А. А. Шахматова – 12 жонкѣ вѣщихъ). Считается, что форма Р. п. атрибутивов при существительных м. р. становится, безусловно, господствующей уже в деловых памятниках XV–XVII веков (В. Егоров, А. Е. Супрун, Л. И. Станкевич, Г. А. Хабургаев), вытес- няя тем самым соответствующие образования И. п. дв., мн. ч.
Соответствие данного результата современной языковой системе, по-видимому, поставило точку в исследовании этого вопроса: дальнейшие экскурсы в историю рассматриваемых форм фактически прекратились. При этом такой подход не объясняет, почему столь устоявшееся, по мнению лингвистов, в литературном языке употребление имен прилагательных зачастую отсутствует в текстах XIX века, а предпочтение, каким бы ни был род субстантива, нередко отдается формам И. п.: ср. Два голубя, как два родные брата , жили (И. А. Крылов); Я лучше за ширмами послушаю, как вы, два умные человека , будете говорить (А. Ф. Писемский); Только две звездочки, как два спасительные маяка , сверкали на темно-синем своде (М. Ю. Лермонтов) .
В настоящей статье предпринимается попытка проследить динамику указанных форм, сделав предметом исследования их функционирование в литературной практике XVIII века.
Для рассматриваемого периода нами было установлено порядка 168 употреблений имен прилагательных в сочетаниях числительных два , три , четыре с субстантивами м., ср. р.; 128 подобных конструкций зафиксировано с существительными ж. р. (выборка производилась из авторитетных для своего времени художественных, научных, публицистических текстов – см. источники примеров в скобках). Количество генитивных образований на этом фоне до конца столетия остается ничтожно малым: главенствующее положение в литературном языке исследуемой эпохи, безусловно, принадлежит конструкциям с определениями в номинативе.
См. примеры для м., ср. р. (155 конструкций): «два сопротiвные непрiятели» (Э. Браун. Артиллерия); «два единогласные эксемляра сочинены» (Указы Петра); «въ три оныя мѣсяцы» (Варениус. География генеральная); «три великiи острова» (Герман. Сокращение математическое); «три его главнѣйшiя сочиненiя» (Фонтенель. О множестве миров); «два музыкальныи хора» (Тредиаков-ский. Аргенида); «четыре Коряцкiе острожка» (Крашенинников. Описание Камчатки); «два кубическiе дюйма» (Изв. АН. 1780); «два малыя судна» (Радищев. Путешествие); «три латинскiя письма» (Карамзин. Письма рус. путешественника. Ч. 2); «тебѣ два ясныя представить предложенья» (Княжнин. Чудаки); «два украденные мѣшка хлѣба» (Вольтер. Человек в пер. Богдановича) и т. д.; для ж. р. (122 случая) – «двѣ за-палные дыры» (Э. Браун. Артиллерия); «3 пушеч-ныя боiнiцы» (Кугорн. Крепостное строение); «четыре генеральныя аффекцiи» (Варениус. География генеральная); «двѣ послѣдния луны Сатурновы» (Фонтенель. О множестве миров); «двѣ небольшiяжъ внутренныя губы» (Крашенинников. Описание Камчатки); «двѣ параллель-ныя линѣи» (Гост. Искусство флотов); «на три равныя части» (Изв. АН. 1779); «двѣ славныя Династiи» (Карамзин. Похвальное слово).
В связи с этим вряд ли можно признать справедливым утверждение А. Е. Супруна о том, что «не очень редки конструкции с родительным и в произведениях XVIII века» [2; 63]. В частности, пример, отмеченный им у А. Сумарокова ( два костеных шарика ), среди употреблений с аналогичным следованием частей (числительное – определение – существительное (ЧОС)) и родом субстантива – большая редкость (в нашем материале только 5 таких случаев на 89 структур с определениями в номинативе). Добавим, что в своей докторской диссертации, посвященной славянским числительным, исследователь высказывается на эту тему уже более осторожно. Так, в художественной литературе, по его наблюдениям, «именительный падеж определения вообще преобладает для всех трех родов», хотя фактологические данные, которые приводит автор для этих источников, значительно разнятся с нашими: по его наблюдениям, употребление определения в Р. п. при существительных м. р. фиксируется в одной трети всех случаев таких сочетаний, для ж. и ср. р. – в одной шестой. В нашем материале – гораздо реже.
Безусловное господство подобных сочетаний в литературной практике рассматриваемого периода подтверждается в том числе и их широкой жанрово-стилистической дистрибуцией (см. источники примеров), чего нельзя сказать о соответствующих образованиях с генитивными формами определений. Так, употребление Р. п. прилагательного в большинстве примеров с существительными всех родов конструктивно ограничено постпозицией определения по отношению к существительному: «4 кварты кра-ковскихъ» (Магницкий. Арифметика); «на двѣ части равныхъ» (Тредиаковский. Езда в остров любви); «4 лисицы красныхъ» (Крашенинников. Описание Камчатки); «волкъ вытерпелъ два уда- ра такихъ» (Фонвизин. Басни); «найдены были два тѣла мертвыхъ человѣческихъ» (Изв. АН. 1779) и некоторые другие.
Однако и в данном случае формы И. п. в наших источниках занимают не последнее место: «два слова азбучные» (Герман. Сокращение математическое. Ч. 1); «два Квадранта ст ѣ нные» (Делиль. Предложение); «два хохла б ѣ лые» (Крашенинников. Описание Камчатки); «два пятна черныя» (Радищев. Путешествие); «два характера сходные» (Карамзин. Письма русского путешественника) и др. Характерно, что довольно резко уже в первой половине столетия сужается сфера употребления сочетаний с данным порядком слов: из 22 зафиксированных примеров для всех родов 15 имеют отношение к Петровской эпохе, в дальнейшем подобные конструкции в образцовой литературной практике используются очень редко.
Таким образом, грамматический облик сочетаний с два , три , четыре , безусловно, уже сложившийся к XVIII веку в живом языке (с преобладанием генитивных форм присубстантивных определений), не был по ряду причин воспринят литературной практикой указанного столетия. Одной из таких причин, на наш взгляд, следует считать сохранение традиционного осмысления количественно-именных сочетаний с этими ну-меративами под влиянием книжно-славянской письменности, когда существительное, понимаемое как форма И. п., требовало такой же формы согласуемого определения.
К разряду других объективно-языковых факторов, повлиявших на судьбу рассматриваемых сочетаний, необходимо, по всей видимости, отнести вытеснение из употребления модели этих соединений по типу числительное – существительное – определение более новой конструкцией, когда определение ставилось после числительного. По всей вероятности, это было обусловлено использованием таких оборотов, как два обруча железных , 3 лисицы красныхъ , в разговорном языке и деловой письменности, далекой в соотношении со вкусами эпохи от эталона литературной речи, ориентировавшейся на книжно-славянскую норму. Получавшие же распространение сочетания иного типа (ЧОС) могли в силу меньшей связи с указанными источниками попасть под прямое воздействие тенденций, складывавшихся в письменности на этот момент.
Несмотря на то что М. В. Ломоносов в своей грамматике регламентирует употребление обеих нумеративных конструкций ( четыре корабля военных – четыре корабля военные ) [4; 188], в литературной практике XVIII века это варьирование фактически не прижилось. Действительную норму, оформившуюся в нормированной письменной речи указанного периода, впервые, по нашим данным, отмечает А. А. Барсов, говоря о том, что
«к существительному в единственном родительном сочиненному, т. е. после два, две, три, четыре прилагательное правильнее приобщается в именительном, а иногда (выделено мною. – И. Д. ) и в родительном множественном» [1; 173].
Любопытно, что совершенно иная картина возникает перед исследователем, обратившимся к письменности XVIII века, продолжавшей традиции разговорно-делового языка донационального периода. Как известно, в этих источниках в эпоху, предшествующую образованию национального языка, преобладающей нормой количественноименных сочетаний с присубстантивными определениями становятся конструкции типа «две пуговицы хрустальных» , «три мерины добрых» , «четыре торелки оловянных» и подобные (как правило, именно на основе таких примеров делаются уже упоминавшиеся выше научные заключения в работах В. Егорова, Г. А. Хабургае-ва, А. Е. Супруна и др.).
Р. Ф. Титова, изучавшая деловую письменность рубежа XVII–XVIII веков, также указывает на преобладание в языке Нового времени родительного падежа прилагательных в рассматриваемых конструкциях, при этом она иллюстрирует сделанное заключение соединениями того же порядка слов – числительное – существительное – определение : « три бревна сосновых», «две пищали медных турецких» , «три хому-тишка ветхих» и др. [7; 91].
Знаменательно, что изучение аналогичного рода источников середины XVIII века приводит нас, по сути, к тем же самым выводам. Несмотря на активное вытеснение из литературной практики уже в первой половине столетия подобных конструкций, канцелярско-деловой язык по-прежнему продолжает оказывать им предпочтение. См. примеры из челобитных: «покрадено… три рубашки женскихъ цена по пятнатцети копѣек, три рубашки мускихъ цена по пятнатцети ж копѣекъ» (Памятники московской деловой письменности, № 263, 1741 год), «пограбили… два кулгана оловянных ценою каждои по два рубли» (там же, № 264, 1741 год); «реэстръ что чего покрадено… три рубашки му-ских миткалных с манжетами по пять рублевъ три рубашки женских на три рубли… две простыни полотняныхъ с кружевомъ заморскимъ на десять рублевъ…» (там же, № 266, 1747 год); «кражею от меня снесли… три блюда болших аловянных же цена восемь рублевъ три платка талиянских ценою каждои по два рубли… три калпачка серебреныхъ ис которыхъ пьютъ вотку цена три рубли…» (там же, № 282, 1747 год) и др. [5]. Формы присубстантивных определений И. п. мн. ч. в сочетаниях существительных с числительными ‘2’–‘4’ в указанных источниках большая редкость: «двt рубашки с порты алле-ные» (там же, № 264, 1747 год), порядок слов, как можно видеть, при этом остается тем же.
Заметим, что новая литературная норма расположения компонентов в сочетаниях подобного типа почти неизвестна и исследованному нами «Соловецкому летописцу», памятнику севернорусской региональной письменности конца столетия: «по углам построены четыре престола предельных» , «2 колокола зазвонные» , «две стопки сребрянные да три лошки сребря-ные» , «два пруда каменные делал» , «две пищали девятипядные медные, да две пищали полуторные медные», «пожаловал 4 пищали затинных» , «пожаловал две пищали полуторных медных» , «две пушки медные полуторные» , «3 покрова служебные» , «две цки сребрянные чеканные» , «два престола предельные» , «построено две часовни каменные» [3]. Однако в данном источнике, если говорить о сочетаниях с ‘2’–‘4’, весьма ощутимое преимущество оказывается (в отличие от памятников московской деловой письменности) за И. п. определений, который употребляется параллельно с Р. п., по всей видимости, без какой-либо содержательно-стилистической подоплеки. Безусловно, интересны в «Летописце» примеры, известные разговорно-деловому языку дона-циональной поры (типа 4 лапки лисьих красные ), когда И. и Р. п. используются в пределах одного количественно-именного сочетания: «4 судна мореходных , называемые лодьи», два подсвещника церковных болших выносных на литиях, чеканной работы, сребрянные, золочены , с черьнью».
Всего в «Соловецком летописце» на 30 описанных структур с постпозицией определения приходится всего лишь один случай, отражающий современный порядок слов в этих конструкциях: «две каменные плиты» .
Исходя из проанализированных данных, можно утверждать, что установившаяся в авторитетной литературной практике изучаемого периода норма словосочетаний с ‘2’–‘4’, достаточно последовательно соблюдаемая уже с начала столетия, пока не находит применения (по крайней мере в первой половине XVIII века абсолютно точно) в обиходно-деловой письменности, ориентированной на традиционные речевые стандарты, сформировавшиеся в данной языковой сфере еще в донациональную эпоху.
С известными оговорками это замечание, по всей видимости, можно отнести и к источникам регионального происхождения, хотя относительно этих текстов наше предположение, несомненно, нуждается в куда более тщательной проверке на основе фактов, различных как по локальным, так и по жанрово-стилистическим характеристикам.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Браун. Артиллерия – Браун Э. Новейшее основание и практика артиллерии. М., 1710.
Варениус. География генеральная – Варениус Б. Географиа генеральная: Небесныи и земноводныи круги купно с их своиствы и деиствы. [М.], 1718.
Вольтер. Человек – Вольтер Ф. Человек в 40 талеров / Пер. П. И. Богдановича. СПб., 1792.
Герман. Сокращение математическое – Герман Я., Делиль Ж.-Н. Сокращение математическое ко употреблению его величества императора всея России: В 2 ч. / Пер. И. С. Горлицкого. СПб., 1728.
Гост. Искусство флотов – Гост П. Искусство военных флотов, или Сочинение о морских еволюциях / Пер. И. Голенищева-Кутузова. СПб., 1764.
Делиль. Предложение – Делиль Ж.-Н. Предложение о мерянии земли в России / [Пер. В. К. Тредиаковского]. СПб., 1737.
Изв. АН, 1779, 1780 – Академическия известия на 1779 (1780) год, содержащия в себе историю наук и новейшия открытия оных: В 6 ч. СПб., 1779 (1780).
Карамзин. Письма – Карамзин Н. М. Письма рускаго путешественника: В 3 ч. М., 1797.
Карамзин. Похвальное слово – Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине Второй. М., 1802.
Княжнин. Чудаки – Княжнин Я. Б. Чудаки // Княжнин Я. Б. Собрание сочинений Якова Княжнина: В 5 т. Т. 5. М., 1802–1803.
Крашенинников. Описание Камчатки – Крашенинников С. П. Описание Земли Камчатки: В 2 т. СПб., 1755.
Кугорн. Крепостное строение – Кугорн М. Новое крепостное строение на мокром или низком горизонте. Господина барона фон Кугорна, генерала Артилерии, генерала порутчика инфантерии, генерала правителя крепостного строения Статов Недерляндских и губернатора Фландерского / Пер. М. П. Шафирова. М., 1710.
Магницкий. Арифметика – Арифметика, сиречь наука числителная, сочинися сия книга чрез труды Леонтиа Магницкого. М., 1703.
Радищев. Путешествие – Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1790.
Тредиаковский. Аргенида – Баркли Д. Аргенида: Повесть героическая / Пер. В. К. Тредиаковского. СПб., 1751.
Тредиаковский. Езда в остров любви – Тальман П. Езда в остров любви / Пер. В. К. Тредиаковского. СПб., 1730.
Указы Петра – Указы блаженныя и вечнодостоиныя памяти государя императора Петра Великаго самодержца все-россиискаго: Состоявшияся с 1714, по кончину его императорскаго величества, генваря по 28 число, 1725 году. СПб., 1739.
Фонтенель. О множестве миров – Фонтенель Б. Разговоры о множестве миров г. Фонтенела Парижской академии наук секретаря / Пер. А. Кантемира. СПб., 1761.
Фонвизин. Басни – Хольберг Л. Басни нравоучительныя с изъяснениями г. барона Голберга / Пер. Денис фон Визин. М., 1787.
Список литературы Варианты сочетаний типа четыре корабля военных - четыре корабля военные в литературно-письменном языке XVIII века
- Барсов А. А. Российская грамматика. М., 1981.
- Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. М., 2001.
- Летописец Соловецкий. Рукопись XVIII в. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://library.karelia.ru/
- Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1755.
- Памятники московской деловой письменности XVIII века/Под ред. С. И. Коткова. М., 1981.
- Супрун А. Е. О русских числительных. Фрунзе, 1959.
- Титова Р. Ф. Имя числительное в деловых документах конца XVII века (Дела Азовской приказной палаты)//Известия Воронежского государственного педагогического института. 1962. Т. 42.