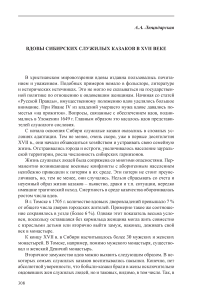Вдовы сибирских служилых казаков в XVII веке
Автор: Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521774
IDR: 14521774
Текст статьи Вдовы сибирских служилых казаков в XVII веке
Жизнь служилых людей была сопряжена со многими опасностями. Перманентно возникающие военные конфликты с аборигенным населением неизбежно приводили к потерям в их среде. Эти потери не стоит преувеличивать, но, тем не менее, они случались. Нельзя сбрасывать со счета и неуемный образ жизни казаков – пьянство, драки и т.п. ситуации, нередко имевшие трагический исход. Смертность в среде казачества оборачивалась ростом числа вдов.
В г. Томске к 1705 г. количество вдовьих дворовладений превышало 7 % от общего числа дворов городских жителей. Примерно такое же соотношение сохранялось в уезде (более 6 %). Однако этот показатель весьма условен, поскольку оставшаяся без кормильца женщина могла жить совместно с взрослыми детьми или вторично выйти замуж, наконец, доживать свой век в монастыре.
К концу XVII в. в Сибири насчит ыв а л ось более 30 мужских и ж енских монастырей. В Томске, например, помимо мужского монастыря, существовал и женский Девичий монастырь.
Вторичное замужество вдов можно выявить следующим образом. В некоторых семьях служилых казаков воспитывались пасынки. Конечно, нет абсолютной уверенности, что бобыли-казаки брали в жены исключительно овдовевших жен служилых людей, но и таковых, видимо, в том числе. Так, в
1667 г. в семье пешего казака Н. Постникова рос пасынок – пятнадцатилетний Афанасий Иванов, а в семье пешего же казака П. Васильчина – пасынок Кирилл Кондратьев пятнадцати лет [РГАДА, оп. 5, ед. хр. 154, л. 18, 20 об.]. Перечень подобных примеров можно продолжить.
Источники XVII в. скуп о , но освещают в оп р ос, связа н ны й с ф у нкц и онированием вдовьих хозяйств. Вдовы служилых людей, располагавшие земельными (иногда значительными) угодьями в уезде, успешно справлялись с организацией сельскохозяйственных работ и реализацией излишков производства. Естественно, это было предопределено имущественным положением семьи.
Известно, что вдова конного казака Данилы Антипина – Ирина Ивановна имела замку в деревне Саламатовой, где распахивала 1,5 десятин и заготавливала по 50 копен сена, а значит держала в своем хозяйстве домашний скот. Земля принадлежала ей на паях с родственником, видимо, братом покойного мужа – С. Антипиным. На заимке работал купленный вдовой дворовый работник со своим семейством [РГАДА, кн. 1371, л. 282 об.].
Вдова конного казака Григория Замятнина проживала на своей заимке в деревне Трубачевой. Естественно, она одна не могла справляться с хозяйственными работами. Помогали ей в этом два купленных дворовых калма-ка . Обрабатывалась на заимке под пашню всего 1 десятина и заготавливалось лишь 20 копен сена. Угодья по крепости принадлежали ей совместно с конным казаком Степном Замятниным «с товарищи». Скорее всего, все они были родственниками по умершему мужу [Там же, л. 359].
Приведенные примеры являются наиболее типичными. Существуют и иные свидетельства использования вдовами служилых людей угодий Томского уезда. Так, вдова конного казака Леонтия Воронина владела пашенной заимкой в деревне Ворониной, названной, скорее всего, по имени основателя. Известно, что земля была зачтена покойному мужу вдовы за хлебный оклад. Заимка была обширной: «…от устья речки Кутата 3 версты, в от речки Яи в поле до буерака Яман Узеня 4 версты, а сенные покосы за речкой Яею в лугах». Обрабатывались под пашню 2 десятины, сена заготавливали 150 копен. На заимке у вдовы работали наемные работники. Источник не указывает их имен, что позволяет предположить сезонный наем рабочей силы. Анализируя сведения, можно сделать вывод, что ранее это хозяйство можно было причислить к разряду зажиточных, но со смертью хозяина оно приходило в упадок. Спасти угодья могло бы только второе замужество вдовы, либо наличие дочерей и зятьев, способных вести хозяйство [Там же, л. 328–329].
В деревне Середининой проживала «своим двором» вдова Феврония Иванова. Ее умерший муж числился казачьим сыном и не имел земельного надела. Возможно, он занимался ремеслом, что было привычно для детей казаков, не попавших в состав гарнизона. У вдовы Февронии был купленный дворовый работник – одиннадцатилетний Иван. Судя по возрасту, он более являлся приемный воспитанником, помогавшим по хозяйству. Никаких налогов в казну вдова не платила [Там же, л. 288].
Особняком среди казачьих вдов, обосновавшихся в Томском уезде, стояла Домна Серединина. Семейство Середининых выделялось предпринимательством и было одним из самых зажиточных в Томской округе. Кроме того, оно насчитывало много родственников. Домна Ивановна рано овдовела; ее осиротевшему сыну было всего 9 лет. Она отчаянно оспаривала права сына на отцовское наследство, на которое претендовали братья покойного Терентия Серединина. Видимо, семейство пришло к некому компромиссу, потому что большинством угодий вдова владела на паях с родственниками. Первая ее пашенная заимка располагалась поблизости от реки Томи. На заимке был двор со всеми хозяйственными строениями. Там жили дворовые работники. На этой заимке распахивали 2 десятины и заготовляли 200 копен сена. Другие ее угодья (2×2 версты) были вблизи реки Оби. Эти земли не использовались, «лежали в пусте». На реке Чулыме была еще одна заимка с построенным двором, где обитали работники. Распахивали на этой земле также 2 десятины и заготавливали 100 копен сена. Невдалеке на речке Бирле стояла колесная мельница.
Числились за Домной Ивановной и обширные угодья на речках Кие и Киндерепе. Кроме того, Домна Серединина владела с братьями мужа лугами и покосами, рассчитанными на 700 копен сена. Еще одна колесная мельница была построена Тояновой на речке Князь. Вдове принадлежали еще рыбные угодья и «луговые места». Из источников неясно, смогла ли вдова оспорить притязания деверя на часть собственности, но то, что она защищала свои права перед воеводской администрацией, не вызывает сомнений [Там же, л. 289-290].
Эпизоды, связанные с вдовами, имеющими собственность в уезде, лишний раз показывают, что оставшиеся без кормильца казачьи семьи в большинстве случаев могли самостоятельно продолжать свое существование. Это утверждение справедливо и для «городских» вдов.
В целом, удельный вес вдовьих дворовладений в общей массе был невелик. В Томске, как уже отмечалось выше, в 1705 г. их насчитывалось немногим более 7 %. Надо полагать, подобное соотношение сохранялась и в иных западносибирских городах. Овдовевшие горожанки искали возможность приспособиться к новым для них обстоятельствам. Так, вдова кожевника Ивана Шурока продавала кожи на рынке, занималась сбытом готовой продукции [Люцидарская, 1992, с. 108]. Есть основания полагать, что подобным образом поступали и иные вдовы промышленных людей и ремесленников, разница состояла лишь в масштабах их деятельности.
Вдовы принимали участие в рыночных сделках: продавали и покупали дворы, различную недвижимость, крепостных холопов и всевозможные товары. Эти факты зафиксированы в приходных документах Томска начала XVIII в. [Там же, л. 296об., 32 8 и др . ]).
Прерогативой вдов была выпечка просвир для церковных нужд. За год такой работы вдова получала 1 рубль. Существуют многочисленные записи в расходных книгах: «…просвирке вдове Маланье Яковлевой за работу, что она печет просвиры к Соборной церкви, за год рубль». Однако, судя по материалам XVII в., подобным делом занимались малообеспеченные вдовы, лишенные поддержки со стороны родственников [Там же, л. 128–133].
Издавна женщины, лишившиеся кормильца, составляли наиболее уязвимую часть населения. На помощь приходила власть и монастыри, предоставлявшие кров и пищу вдовам. Надо заметить, что с самого начала освоения территории к просьбам вдов сибирская администрация относилась достаточно внимательно. Так, уже в 1599 г. вдова служилого человека И. Тыркова, погибшего «при расчистке» дорог, получила разрешение переехать из Верхотурья в Москву при обеспечении ее «подводкой» (транспортировкой). В это же время по челобитной казачьей вдовы Анисьи из Верхотурья она была отправлена в Москву с сыном, также служилым человеком [Верхотурские…, 1982, с. 42, 50].
Таким образом, можно сделать вывод, что лишившиеся кормильца жены служилых людей, как правило, получали поддержку со стороны царской администрации и духовных структур Сибири. Казачьи вдовы, обладавшие хозяйством и имевшие взрослых детей, находили способы оставаться в пределах активного сообщества.