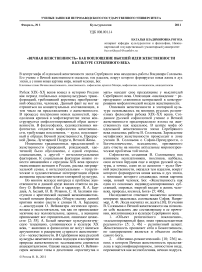«Вечная женственность» как воплощение высшей идеи женственности в культуре Серебряного века
Автор: Рогоза Наталья Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Вечная женственность, софиология, архетип матери, мифологема, эссенциализм, акцидентализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14749836
IDR: 14749836
Текст статьи «Вечная женственность» как воплощение высшей идеи женственности в культуре Серебряного века
Рубеж XIX-XX веков вошел в историю России как период глобальных социокультурных трансформаций, требовавший коренных преобразований общества, человека. Данный факт не мог не отразиться на концептуальных составляющих, в том числе на представлениях о женственности. В процессе построения новых ценностей, преодоления кризиса в мифотворчестве эпохи конструируется мифологизированный образ женственности. В философских, художественных ми-фотекстах создается мифологема женственности, требующая поклонения, - культ, воплощенный в образах Вечной женственности, Прекрасной Дамы, Лучезарной Подруги, Вечной Жены.
Изменение традиционных представлений о женственности (природной, рождающей, хаотичной) было обусловлено, с одной стороны, социальными, с другой – интеллектуальными факторами. К социальным факторам можно отнести начавшийся с середины XIX века процесс эмансипации женщин в России, распад патриархальной семьи, к интеллектуальным - теоретические и художественные интерпретации образа женщины представителями элитарной культуры.
Во многом всплеск интереса к проблеме женственности в данной среде явился ответом на работу О. Вейнингера «Пол и характер». Н. А. Бердяев, А. Белый, В. В. Розанов, С. Н. Булгаков выступили с критической оценкой женоненавистнической позиции философа. Общую оценку данной критики можно свести к словам Н. А. Бердяева: «...конструкция О. Вейнингера логически произвольна и несостоятельна, так как он приписывает мужчине все положительное, ценное... а женщине приписывает все отрицательное, лишенное ценности» [2; 55]. А. Белый намечает культурологическую тенденцию, сложившуюся в культуре XX века, - анатомия и физиология не могут являться аргументами в раскрытии сущности женственности – мужественности. В Серебряном веке русской культуры намечается смена подходов в восприятии природы женственности: эссенциализм сменяется акцидентализмом. Однако выделенные О. Вейнин-гером женские типы в дихотомии «проститутка и мать» находят свое продолжение у мыслителей Серебряного века. Оппозиция «наслаждение - репродукция» становится центральной в конструировании мифологической модели женственности.
Описания женственности в элитарной культуре основывались на мнениях русских религиозных философов рубежа XIX–XX веков. Созданное русской софиологией учение о Вечной женственности предопределило взгляд на женственность как идеальное. В центре мифа об идеальной женственности эпохи Серебряного века оказались работы В. Соловьева. Зарождение метафизики женственности происходит в лоне учения В. Соловьева о Софии-Премудрости, о Богочеловечестве, всеединстве, призванного дать ответы на многие актуальные мировоззренческие проблемы той эпохи.
Софиология, созданная В. Соловьевым под влиянием неоплатоников, гностиков, каббалы, свои истоки берущая еще в недрах русской культуры, а точнее, один из ее аспектов - культ Вечной женственности, оказался тем идеалом, вокруг которого формируются новая жизнь и дух эпохи, с помощью которого создавалась новая картина мира, новый человек, Бог. «Женственность как одна из основных индивидуализированных субстанций, мировых энергий входит в жизнь человека, природы, космоса, Бога» [5; 406].
Исследователи отмечают множество аспектов, которыми наделялась соловьевская София. Например, А. Ф. Лосев насчитал их десять [10]. В учении В. Соловьева о Вечной женственности мы позволили себе выделить две составляющие в ее прочтении, воплотившиеся в культуре Серебряного века.
-
1. «Объект религиозного поклонения», «идеализированный факт, иная трансцендентная реальность» [5; 3, 46] – религиозный аспект. Женственность проявляет себя в Божественном, но одновременно является и объектом любви самого Бога.
-
2. «Интимно-романтический» [10; 236] аспект, в котором Вечная женственность представлена в персонифицированном, личностном виде, переживается как возлюбленная, вечная подруга.
К первой характеристике следует отнести идею В. Соловьева о существовании Другого для Бога, воплощенную в образе совершенной Женственности, «которая не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всей полнотой сил и действий» [14; 19–77]. Причем в создании Другого концепт женственности выбран неслучайно. По своей сути женственность изначально воспринимается как что-то Иное по отношению к традиционному. В данном случае привычным является Бог, представленный в виде Мужественности, которому и противопоставляется образ Женственности. Женственность изображена как метафизическая категория; она раскрывает сущностные основы бытия, признается как некий духовный первопринцип (прочтение женственности как духовного первопринципа представлено у С. Н. Булгакова в «Свете невечернем»).
Вечная женственность в «Смысле любви» В. Соловьева отлична от трипостасного Бога, в ее основе лежит чистое «ничто», но она воспринимает от Бога образ абсолютного совершенства и является «вечным предметом» и «живым идеалом» Божьей любви, потому и должна воплотиться в многообразии форм и степеней как «живое духовное существо» [13; 61]. Она потенциальна и пассивна, что позволяет ей выполнять волю Творца. Однако женственность есть не простая, а активная пассивность: она призывает и ожидает схождения Божественной полноты неба и оплодотворения ее творческим духом Божества.
-
В. Соловьев, преобразуя христианские догматы в новый религиозно-философский концепт, отделяя энергию Высшего от его сущности, обнаруживает в нем женскую специфику. Это позволило С. Н. Булгакову назвать соловьевскую Софию четвертой ипостасью – личностью Бога.
Онтологическая характеристика в определении Божественности наделяется гендерными характеристиками природы женского и мужского. Вечная женственность приобретает идеализированные черты самой женственности как концепта, становится природной, хаотической, чистой, непорочной, активной в своей пассивности, заботливой покровительницей, заступницей, именно ей принадлежит функция связи человечества с Богом, Мужественностью как таковой.
В таком контексте образ Вечной женственности является не только результатом мистического влияния, но соотносится с традиционным русским менталитетом, народной культурой. Олицетворяя собой единение человечества, Вечная женственность проявляет материнские черты, подобно Богородице (Богине-Матери), Матери – Сырой Земли, народного варианта Богородицы. Таким образом, происходит слияние образа Вечной женственности, Богородицы, Матери-Земли в древнем архетипе матери, символизирующей кормящее, заботливое, сохраняющее начало.
«Любовь – София – Богоматерь – Мать-Земля – вот символические имена “нового неба”, обнажившие специфически гендерный аспект символистского описания природы святости» [9; 155], который переносится в мир земной реальности, где уже Вечная женственность из мистического трансформируется в личностное. Здесь раскрывается выделенный нами второй аспект в понимании Вечной женственности как объекта идеализации. Через идеализированную Вечную женственность пересматривается не только бытие, но и позиция человека в мире, его природа.
-
В. Соловьев был уверен, что любая идеализация образа любимой сопровождается реализацией Бога, нисхождением его в земной мир для освящения всякой великой любви. В. Соловьев желает увековечить свою любимую в Боге, «поместить в Небо ее образ и тем обеспечить вечную и божественную любовь, которая и способна будет соединить небо и землю в едином богочеловеческом процессе» [14; 69]. Желание совмещения идеального и реального реализуется в мифологеме женственности, ярчайшим образом воплотившейся в культурной жизни эпохи (философия, литература, живопись).
В мифе об идеальной женственности «природно-женское» объявлялось злом, злой женственностью, которую необходимо преодолеть. Н. Ф. Федоров в «Философии общего дела» называет природу силой «слепой», «смертоносной и саморазрушительной» [15; 159], которая ни к чему, кроме смерти, привести не может. Философ выступает главным образом против репродуктивной функции женщины-природы. Характеризуя рождение как «бессознательное, невольное и слепое» [15; 142], философ призывал обратить его в «сознательное, светлое, действительное, всеобщее, личное воскрешение» [15; 164].
Отрицая традиционные номинации женственности, философы заменяют их в рамках мифотворчества на противоположные, идеализированные. Реальное (женственность природная) заменяется идеальным, мифологизированным (женственность божественная, святая), которое начинает восприниматься как действительное. Женщине отводится роль Богини, вдохновительницы, мечты, абсолютной идеи, которую можно только лицезреть и поклоняться ей как Вечной женственности.
Представления В. Соловьева об идеализации женского творцы Серебряного века восприняли как программу действий. Миф В. Соловьева о всеедином мире Неба и Земли, соединенных Софией (Вечной женственностью, Душой Мира) лег в основание мифологемы идеализированной женственности в эпоху модернизма, «захваченную поиском адекватной модели воплощения Вечной женственности в мире» [7; 153].
Соловьевская традиция находит свое продолжение в творчестве Н. А. Бердяева. В деле построения идеального общества, мира Н. А. Бердяев главную роль отводит реконструкции идеаль- ной природы женского, ставит задачу реализации этого идеала в жизни. Рассматривая вопрос об эмансипации, призвание женщины Н. А. Бердяев видит в утверждении метафизического начала женственности. По его мнению, женщина вдохновляет мужчину на творчество, и через творчество он стремится к целостности, хотя не достигает ее в земной жизни; мужчина всегда творит во имя Прекрасной Дамы. Поэтому женщина должна стать «конкретным образом Вечной женственности, призванной соединить мужественную силу с Божеством» [2; 255]. Вечная женственность представлена у Н. А. Бердяева, как и у В. Соловьева, спасающей, непорочной, одухотворенной, преображенной в плоти. Женщине остается быть только Вечной Возлюбленной и никогда матерью, женой.
Символисты, интерпретируя соловьевскую тему Вечной женственности, укрепляют веру в возможность синтеза идеального и реального в своем мифотворчестве. У поэтов-символистов жизнь и творчество, реальность и миф настолько тесно переплетаются, что не могут быть рассмотрены отдельно друг от друга. Поэтому мифотворчество поэтов, мыслителей рубежа XIX-XX веков не может быть рассмотрено вне фактов их жизни, в которой поиск адекватной модели воплощения Вечной женственности в мире оказывается главным. В результате природа женского в реальном мире наделяется теми же качествами, что и Вечная женственность, – качествами святости. В такой ситуации идеализированный образ женственности превращается в чистый, асексуальный, целомудренный образ, обнаруживающий пророческий путь спасения, открывающий путь к тайне мироздания. Исто- рию земной любви, перерастающую в мистикофилософский миф, мы наблюдаем у А. Блока, А. Белого.
Женщина-мечта, женщина-тайна, загадка, бесплотный идеал – этот образ манифестируется в идеализированном ореоле и на живописных полотнах художников Серебряного века. Достаточно вспомнить работы В. Э. Борисова-Мусатова («Дама в голубом», «Призраки», «Девушка в ожерелье»), М. В. Врубеля («Царевна-Лебедь»), А. Н. Бенуа, К. А. Сомова, Л. С. Бакста. Женщины на их полотнах парят в легкой загадочной дымке над землей или, как бесплотные манящие тени, уходят в туманную даль. В картинах П. В. Кузнецова Вечная женственность проявляется в большей степени в ипостаси матери («Любовь матери», «Голубой фонтан»).
Итак, период рубежа XIX–XX веков, нацеленный в своем мифотворческом восприятии мира на идеальное пересоздание действительности, открывает новые грани в интерпретации и восприятии концепта женственности. Под знаком соловьевских идей формируются новые веяния эпохи, атмосфера духовной жизни, гендерные идеалы. Творчество В. Соловьева оказалось тем вектором, который определил характер и направление развития отечественной мысли и культуры в представлении природы женского в образе Вечной женственности (идеальной женственности), с устойчивостью воспроизводимом в творчестве разных мыслителей эпохи. Вечная женственность, созданная в мифотворчестве В. Соловьева, явилась основной мифологемой культуры Серебряного века, натурализовавшейся в действительность XX века.
Список литературы «Вечная женственность» как воплощение высшей идеи женственности в культуре Серебряного века
- Белый А. Вейнингер о поле и характере//Русский Эрос, или Философия любви в России/Сост. В. П. Шестаков. М.: Прогресс, 1991.
- Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви//Русский Эрос, или Философия любви в России/Сост. В. П. Шестаков. М.: Прогресс, 1991. С. 232-265.
- Бердяев Н. А. Новое средневековье (размышление о судьбе России и Европы)//Вестник высшей школы. 1991. № 3.
- Бердяев Н. А. Смысл творчества. М.: YMKA-PRESS, 1991. 450 с.
- Богин И. Вечная Женственность. СПб.: Алетейя, 2003. 488 с.
- Ерохина Т. Лик и личина: женские образы в искусстве символизма [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.auditorium.ru
- Климова С. М. Мифологема женственности в культуре Серебряного века и ее социокультурные воплощения//Вопросы философии. 2004. № 7. С. 151-156.
- Климова С. М. Феноменология святости и страстности в русской философии культуры. СПб.: Алетейя, 2004. 329 с.
- Козырев А. П. Смысл любви в философии В. Соловьева и гностические параллели//Вопросы философии. 1995. № 7. С 59-78.
- Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Молодая гвардия, 2000. 613 с.
- Мочульский К. З. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. 607 с.
- Орлов В. Жизнь Блока. Гамаюн, птица вещая. М.: Центрполиграф, 2001. 618 с.
- Соловьев В. Смысл любви//Русский Эрос, или Философия любви в России/Сост. В. П. Шестаков. М.: Прогресс, 1991.
- Соловьев С. М. Вл. Соловьев: жизнь и творческая эволюция/Под ред. И. Г. Вишневецкого. М.: Республика, 1997. 431 с.
- Федоров Н. Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982. 711 с.
- Ходасевич В. Конец Ренаты//Ходасевич В. Ф. Собр соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. 450 с.