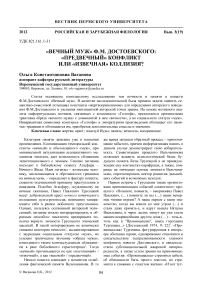«Вечный муж» Ф.М. Достоевского: «предвечный» конфликт или «извечная» коллизия?
Автор: Ваганова Ольга Константиновна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена комплексному исследованию тем вечности и памяти в повести Ф.М.Достоевского «Вечный муж». В качестве исследовательской была принята задача оценить семантико-смысловой потенциал константы «жертвоприношение» для определения авторского поведения Ф.М.Достоевского и уяснения имплицитной авторской точки зрения. На основе мотивного анализа мифоритуальных мотивов, связанных с комплексом «Голгофа», предлагается оригинальная трактовка образа «вечного мужа» с доминантой в нем «вечности», а не социального статуса «муж». Инвариантная символика комплекса «Голгофа» в литературном произведении обогащает его памятью традиции и обогащается им, приобретая дополнительные смыслы и значения.
Жертва, крест, поцелуй иуды, память, вечность, воскрешение
Короткий адрес: https://sciup.org/14729154
IDR: 14729154 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи «Вечный муж» Ф.М. Достоевского: «предвечный» конфликт или «извечная» коллизия?
Категория памяти заявлена уже в названии произведения. Контаминация темпоральной константы «вечный» и обытовленного «муж», при минимальной актуализации ассоциативного механизма читателя, дает возможность сближения экзистенциального с земным. Генезис заглавия восходит к библейскому сюжету Агасфера – Вечного Жида. Идея легенды – возмездие человеку, заключающееся в обреченности грешника на вечные муки, – определяет и фактуру повести, сюжетно подчиненной принципу преступления и наказания. Подобно Агасферу, осужденному на вечные скитания, Павел Павлович Трусоцкий несет добровольный крест вечного комического положения мужа- рогоносца, неизменно запирающего себя в рамки любовного треугольника. Однако, пользуясь осознанной авторской полисемией, заглавие можно интерпретировать и обратным способом: писателем предпринята попытка вернуть личности Трусоцкого эпический масштаб. В такой интерпретации не комически снижена категория вечности1, ассимилированная с заурядным социальным статусом «муж», но усилено трагическое звучание «образа мужа», возводимого таким контекстуальным сближением в ранг библейского страстотерпца2. Тогда «вечный» прочитывается не как «постоянный» / «извечный», а как «вековой» / «предвечный».
Начало повести совпадает с моментом ослабления фактической памяти Вельчанинова. В то же время запущен обратный процесс – припоминание забытого, причем информативная память в данном случае демонстрирует свою избирательность. Семантизация прошлого Вельчанинова позволяет выявить психологический базис будущего сюжета Лизы Трусоцкой в не принадлежащих ему контекстах-парафразах, а также, опираясь на этические основы личности Вельчани-нова, спрогнозировать вектор развития дальнейших событий и возможных исходов.
Первая встреча с Трусоцким также организована припоминанием событий совместного прошлого: «Помните, помните, – выкрикивал Павел Павлович, (…) помните ли вы (…) наши вечерние чтения втроем? А наше первое с вами знакомство, когда вы вошли ко мне утром (…) и стали даже кричать-с, и вдруг вышла Наталья Васильевна, и через десять минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома (…) – точь-в-точь как в "Провинциалке", пиесе господина Тургенева...» [Достоевский 1974, 9: 22]3. «Провинциалка» Тургенева, фигурирующая в интерьере обитания героев, одновременно становится и свидетельством театрализованности главного конфликта повести Достоевского, и свидетельством субстанциональной жанровой неперво-родности, а также углом зрения на припоминаемые события. «Провинциалка» стремится забыть об обязанности быть просто текстом, но стремится к слиянию с «текстом жизни»: «И вот тут-
то мы и играли "Провинциалку", на домашнем театре , (…) но только у меня отняли роль мужа по настоянию покойницы, так что я и не играл мужа, будто бы по неспособности-с...
– Да какой черт вы Ступендьев! Вы прежде всего Павел Павлович Трусоцкий, а не Сту-пендьев! (9, 23)».
А в том факте, что «читал и Павел Павлович, к удивлению Вельчанинова, он очень хорошо умел читать вслух», Достоевский подчеркнул диалогическую открытость Трусоцкого Другому. Дарование Трусоцкого в области выразительного чтения (техникой которого в совершенстве владел и сам писатель4) способствует артистическому самовыражению внутреннего театра «Я», чем он противопоставлен Вельчанинову, лишенному умения прочитывать указания и предостережения Трансцендентного.
После следующей встречи с Трусоцким Вель-чанинов практически насильно забирает Лизу и, при попустительстве отца девочки, отвозит ее к Погорельцевым на дачу, тем самым неожиданно становясь косвенным виновником смерти ребенка, не вынесшего разлуки с отцом: «…ей стыдно (…) что отец ее так бросил; вот в чем вся болезнь, по-моему 5». В набросках писателя к повести Трусоцкий, во-первых, предлагает забрать дочь; во-вторых, навещает ее во время болезни вместе с рассказчиком. Однако незначительная авторская корректура действий Трусоцкого относительно «общей дочери» позволяет Достоевскому в окончательной редакции достичь емкого философского обобщения, где в образе конкретной дочери – Лизы высвечиваются архетипические жертвенные основания. В окончательном варианте повести углубление психологических детерминант и усиление драматического накала бытовых междоусобиц возвышают экзистенциальную драму неудавшегося отцовства, вписанного в любовный треугольник, до мистериально-го уровня.
Тенденция к сакрализации, к проникновению бытия сквозь быт, сохраняется на протяжении всей повести. Так, небезынтересна бытовая подробность, характеризующая «близорукость» Вельчанинова к метафизическим знакам: особое положение обеда/еды в дискурсе Вельчанинова: «Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула (…) вдруг вполне осмыслил причину своей тоски» (до встречи с Трусоцким) (9, 11); Трусоцкий спасает жизнь Вельчанинову раскаленными тарелками и горячим чаем; в эпилоге – «во что бы там ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будет хоть этот тонкий и вкусный обед, за который я теперь са- жусь, а стало быть, я ко всему приготовлен» (9, 107). Последний фрагмент вносит раскол в представление о достойной репутации Вельчанинова, который становится еще сильнее, если обратиться к некоторым словообразовательным дериватам существительного «жертва», и без того дискредитированного родственными словами «низкого» стиля: ЖР[-ать, -ерло]6 (подробнее об этом неспецифическом сближении см.: [Топоров 1980]). В генетической памяти образованного человека XIX в. обед хранит след жертвенной трапезы (аналогия, восходящая к культу Тайной Вечери, – см. рассуждения Достоевского о жанровом своеобразии отражения исторической действительности в «Тайной вечере» Ге и о неправомерности преувеличения художником быта в ущерб бытию7). Если рассматривать Лизу как жертву8 с точки зрения канонической мифологии, то в таком случае Вельчанинов будет выступать в роли жреца, а Трусоцкий окажется на позиции «свидетеля и соучастника» обряда жертвоприношения, но не главного его участника.
В подготовительных материалах Вельчанинов в финале повести резюмирует свои умозаключения о Трусоцком следующим образом: «существо это есть человек, с своими радостями и горем и своим понятием об счастье и об жизни. Зачем я врезался в его жизнь?» (9, 116) . Это высказывание актуализирует мотив бритвы, ставшей орудием возмездия в руках Трусоцкого, напавшего на Вельчанинова, и на уровне семантики демонстрирует трагическую симметрию поступка и его последствий («врезался в жизнь» – порез бритвой), моделируя сюжет воздаяния за грехи, хотя и в несколько «сниженном» плане. Вина Вельчанинова заключается в экспансии его несовершенных представлений о счастье девочки в ее жизнь. Так, он настаивает на увозе Лизы, вынося за скобки ее реальные интересы, подкрепляя свое решение теологической мотивацией: «…там детей много. Она там воскреснет, все для этого...» (9, 35). Вельчанинов, подменяя бытие бытом (что в его случае вполне типично), навязывает Лизе «симулякр Эдема», социальный сублимат Завета человека с Богом. Однако это предельно схематизированный «Райский сад», населенный неперсонализированными детьми, единственное, очевидно, занятие которых – играть в саду. Тема воскрешения для него обмирщается в рациональную практику мудрого поступка. Однако в какой степени этот поступок можно считать «мудрым», лишенным эгоистических импульсов?
Стремление «присвоить» себе Лизу Вельча-нинов обнаруживает в эксплицированном виде:
«Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через два часа, опять увидит свою Лизу» (9, 49). «Он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу (…) и уедет один, а Лиза останется мне ; вот и все, чего ж тут более!» (9, 39); «И неужели, неужели она так его любит? – ревниво и завистливо думал он» (9, 41); «Мне его нужно, этого человека! – решил он наконец (…) – тут дуэль!» (9, 42). Воспринимая Лизу в атрибутике женщины – возлюбленной (и дуэль – показатель такого извращенного отношения «пятидесятилетнего, но промотавшегося» Вельчани-нова к девочке, его дочери), а Трусоцкого как соперника в любви Лизы, Вельчанинов настаивает на том, чтобы отправить дочь «к знакомым», где Трусоцкому позволяется навещать девочку – свою даже не единокровную дочь: «А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите . Да и непременно даже нужно будет вам съездить поблагодарить; каждый день будем ездить, если хотите ...» (9, 35–36). Вельчанинов, таким образом, разрывает социальные связи между Павлом Павловичем и Лизой, закрепляя за последней статус брошенного ребенка9.
Примечательно, что солидарность с решением Вельчанинова проявляет необразованная Марья Сысоевна, квартирная хозяйка Трусоцких: «"Вы, что ли, батюшка, девочку-то отвезете? (…) Хорошо, батюшка, сделаете: ребенок смирный, от содома избавите. (…) Аль у тебя не содом? Прилично ли робеночку 10 с понятием на такой срам смотреть?" (9, 36–37)». Объединяет Вельчанино-ва и Марью Сысоевну, «бабу с благородными чувствами» (9, 51), как профанация в оперировании библейскими категориями , так и «безграмотность» в вопросах внутрисемейных. Достоевский, назвав рассматриваемую нами главу «Фантазия праздного человека», выразил однозначное неодобрение к поступку своего героя. Через шесть лет, в 1876 г., в февральском номере «Дневника писателя», писатель обозначит свою точку зрения еще более резко: «Эти создания [дети] тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня! Семья ведь тоже созидается, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают . Тогда только это и крепко, тогда только это и свято. Созидается же семья неустанным трудом любви» (22, 69–70).
В этико-моральном кодексе «вечного мужа» у социальной эмблематики повышенная значимость. Лишенный места и опоры в четкой стратификации социальных взаимоотношений, – а вслед за этим и устойчивых координат в уставе личных взаимоотношений, – Трусоцкий превращается в «часть целого, выпущенную вдруг на волю».
Далее, когда Вельчанинов почти простился с Лизой, оставляя ее в «золотом саду» Погорель-цевых (сконструированном по идиллическому образцу Райского cада), она «вдруг бросилась целовать ему руки; она плакала, едва переводя дыхание от рыданий (…) (9, 41)».
В следующей сцене повести знаком трагической разломленности жизни героев Достоевского на неадекватные сферы идеи и слова вновь становится целование Трусоцким руки Вельчанино-ва: «Вы знаете ли, что вы теперь – вот чем для меня стали. – И вдруг он схватил его руку и поцеловал » (9, 49).
Поведенчески универсальная форма поступка требует ответной гармонизации жеста («Алексей Иванович, эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку!» (там же)), но не как акт тщеславия Трусоцкого, а, возможно, как попытка обрести цельность : в языческие времена поцелуй обозначал пожелание быть целым, цельным, здоровым. Об этом свидетельствует происхождение слова «поцелуй» от корня «цел»). И в исламе, и православии, и в католичестве поцелуй обеспечивает контакт с объектом поклонения, а также возможность перейти на общий антропологический язык знаков и вступить в мыслительную диалогику во имя утверждения гуманистических ценностей (в «Вечном муже» – императива необратимой ответственности за ребенка). Кроме того что в фольклоре разных народов именно поцелуй возвращает память или вводит в забытье, воскрешает из мертвых, переносит на тот свет и т.д., возможна также апелляция к мифологизированному дискурсу «поцелуя Иуды»11, ставшего в христианской традиции устойчивым символом предательства. Отметим еще интересное пересечение жанрового свойства: «Иудин поцелуй», свершившийся после знаменитого «Моления о чаше», отражен в повести в зеркале фарса: «…мне мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович, мне другое удовлетворение необходимо-с!..
– (…) Поцелуйте меня, Алексей Иванович, – предложил он вдруг» (там же).
Тенденция к созданию жанровых оппозиций в комплексе мифоритуальных мотивов, причем один компонент аналогии заведомо сниженный, сохраняется на протяжении повести: «Когда она
[грешница] целовала ноги Владыки, ангелы радовались и венец ей готовили, когда этот [Иуда] целовал – бесы радовались и сплетали веревку для повешения » (в апокрифе «Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад», восходящем к византийским сочинениям Евсевия Эмесского и Евсевия Александрийского). См. главный страх Лизы Трусоцкой по поводу отца: «Он ночью хотел на петле повеситься! – торопясь и задыхаясь говорила девочка. – Я сама видела! Он давеча хотел на петле повеситься, он мне говорил, говорил! Он и прежде хотел, всегда хотел...» (9, 41). А также вельчаниновское, предваряющее первую встречу: «Жить я не могу, что ли без этого… висельника».
При таком ракурсе рассмотрения не является ли небеспочвенным предположение, что «рога», выставляемые Павлом Павловичем двумя пальцами надо лбом, уместнее экстраполировать не к жесту «комического рогоносца», но к сгущению мистериального трагизма: «Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака» (9, 43).
Поведение Трусоцкого после смерти Лизы также осуществляется посредством кинетического способа выражения, причем поэтика жеста дополнительно семиотически нагружается (см. при известии о смерти Лизы): «Усмехнулся ли он спьяна (…) или у него скривилось что-то в лице , (…) но мгновение спустя Павел Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься; крест , однако ж, не сложился, и дрожавшая рука опустилась» (9, 60). Эстафета попечения о Лизе, «крест», переданный Трусоцким Вельчанинову, так же не «складывается» из-за неверного решения последнего, совместно с его неспособностью прочитывать обрывки культурных кодов.
Окончательно Трусоцкий отрекается от памяти девочки, когда отсылает 300 рублей Пого-рельцевым «на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнию» (9, 61) (аналог Иудиных 30 серебреников), особенно с их назначением – «на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы» (там же). «Вечный муж» буквально оплачивает «лукавой суммой» память об умершей дочери (о тернарности в повести см.: [Фаустов 2006]).
Вельчанинов посмертно возвращает поцелуй Лизе, горячо целовавшей его руки при отъезде из дома: «когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче» (9, 63). Вкупе с порезом бритвой этот поцелуй знаменует для Вельчанинова «искупление», и он считает воз- можным для себя забыть о погибшей, по его неосмотрительности, дочери. Для круга представлений Достоевского отказ человека от абсолютной жертвы ребенка есть онтологическая катастрофа: он добровольно отрекается от искупительного замысла Бога-Сына12 и тем теряет свои качества центральной ценности Божьего мира и наследника Спасения. С потерей памяти о погибшем ребенке в удел вельчаниновскому «Я» вместо творческой философии одиночества остается изоляционизм, что наиболее очевидно в конце повести.
Трусоцкий предугадывает эту метаморфозу, иронически заявляя: «пятидесятилетний, но промотавшийся Вельчанинов» 13. Конечно, эта дефиниция относится не к двум «глупейшим образом промотанным состояниям». Фраза произносится Трусоцким в ситуации, когда он «нищим пустился деньги раскидывать, за упокой души Лизаветы». Сближение этих двух актов намечает очевидную корреляцию между духовным банкротством Вельчанинова и оплатой памяти Лизы. С точки зрения быта, с момента гибели Лизы Вель-чанинов и Трусоцкий словно расходятся в противоположные стороны: первый – к обретению Памяти, а второй – к забвению дочери (его скоропалительное решение жениться, скандалы в публичных местах, драки с проститутками и т.п.). Однако при сохранении разнонаправленно-сти векторов движения героев конечные пункты их путей обратны ожидаемому результату: у Вельчанинова спустя два года после описанных событий «от прежней ипохондрии почти и следов не осталось» (9, 106). Будучи стертым из памяти, сюжет Трусоцкого–Лизы перестает быть и координатой времяисчисления для Вельчанино-ва: «От разных "воспоминаний" и тревог – последствий болезни , – начавших было осаждать его два года назад в Петербурге, во время неуда-вавшегося процесса (…)» (там же). Отсюда понятно нежелание Трусоцкого протягивать руку в ответ на предложенное ему рукопожатие Вель-чанинова: « – Уж если я протягиваю вам вот эту руку, показал он ему ладонь своей левой руки, на которой явственно остался крупный шрам от пореза, – так уж вы-то могли бы взять ее!» (9,112).
«А Лиза-то-с?» действительно становится последним словом, впервые являющим окончательную правду в диалоге героев14. Обращает на себя внимание визуальная режиссура эпизода: взгляд нарратора устремлен на лицо Трусоцкого, Вель-чанинов же обезличен авторским скупым пространственно-статичным описанием: «Вельчани-нов стоял перед ним как столб» (там же). Далее раздается свисток поезда, знаменующий окончание и действия, и мистериального действа, и до- роги Вельчанинова и Трусоцкого окончательно расходятся. В конце повести Павел Павлович успевает догнать свой поезд, что глубоко символично – и в деле памяти о ребенке его «поезд не ушел». Вельчанинов же «только к вечеру отправился в дорогу, дождавшись нового поезда и по прежнему пути» (там же), что отражает также этическую диспозицию к моменту окончания повести.
Voronezh State University
Список литературы «Вечный муж» Ф.М. Достоевского: «предвечный» конфликт или «извечная» коллизия?
- Ваганова О.К. «Бедная Лиза» Ф.М.Достоевского (несколько замечаний к символическому потенциалу повести «Вечный муж»)//Коды русской классики: «детство», «детское» как смысл, ценность и код (Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.). Самара: Изд-во «СНЦ РАН», 2012. С.79-84.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1974. Т.6, 9, 22.
- Иванов В.В. Образ Богомладенца в творчестве Достоевского (рассказы «Мальчик у Христа на елке» и «Сон смешного человека»)//«Педагогiя» Ф.М.Достоевского: сб. ст. Коломна: КГПИ, 2003. С.42-52.
- Михнюкевич В.А. «Евангелия детства» и поэтика детских образов Достоевского»//Там же. С.33-42.
- Тихомиров Б.Н., Тихомирова Н.А. «Я бы удивился, если б в Евангелии была пропущена встреча Христа с детьми…»//Там же. С.21-32.
- Топоров В.Н. Еда//Мифы народов мира: энциклопедия. М., 1980. Т.1. С.427-429.
- Фаустов А.А. Диалог с Пушкиным в «Вечном муже» Достоевского//Текст и интерпретация. Новосибирск, 2006. С. 86-96.