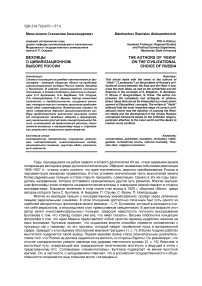Веховцы о цивилизационном выборе России
Автор: Мальченков Станислав Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 11, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена взглядам отечественных философов - авторов сборника «Вехи» на проблему цивилизационного выбора России между Западом и Востоком. В работе анализируются основные положения, а также сходства и различия в концепциях С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, П.Б. Струве, П.А. Новгородцева, С.Л. Франка. Автор отмечает сложность и неоднозначность воззрений веховцев, которые нельзя считать простым продолжением идей славянофилов. Важнейшими шагами на пути совершения верного цивилизационного выбора представители веховства называли отказ от копирования западных идеалов и формирование уникального российского концептуального базиса, основанного на православной религии, повышенном внимании к внутреннему миру и стремлении разрешить моральные противоречия.
Консерватизм, патриотизм, социализм, революция, интеллигенция, цивилизационный выбор, национальное сознание, "русская идея", религиозный гуманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14937091
IDR: 14937091 | УДК: 316.722(470
Текст научной статьи Веховцы о цивилизационном выборе России
Годы, пришедшиеся на рубеж первого и второго десятилетий XX вв., стали временем резкой поляризации взглядов в среде русской интеллигенции. Эйфория, вызванная событиями революции 1905–1907 гг., стихла; стало понятно, что идея постепенного, мирного преобразования России в парламентскую монархию провалилась. В этих условиях значительная часть мыслителей заняла более радикальные позиции и стала открыто призывать к революции. Однако в эти же годы зародилось направление, которое отстаивало принципиально другой путь развития. Многие крупнейшие философы эпохи отвергли социалистические взгляды и совершили резкий поворот в сторону консерватизма. Знаковым явлением в этом плане стал выход в 1909 г. сборника «Вехи», среди авторов которого были С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк, П. Новгородцев.
Многие из веховцев пришли к консервативному мировоззрению, пройдя через увлечение левыми радикальными учениями. В этом отношении достаточно типичным был путь одного из наиболее авторитетных философов своего времени – С.Н. Булгакова, который в молодости считал себя марксистом, а впоследствии стал православным священником. В зрелом возрасте этот автор занял «неославянофильскую» позицию. Широкую известность получило высказывание Булгакова о том, что «Запад сказал уже все, что имел сказать». Весьма любопытна концепция философа о том, что идеи Маркса представляют собой простой перевод иудейских канонов на язык экономики. Булгаков признает, что социализм вполне способен привести человечество к прогрессу как к таковому, но это прогресс, который найдет проявление лишь в материальной сфере, приведет к «последнему обострению мировой трагедии» [1, с. 7]. В более поздних работах мыслителя содержится такой вывод: Первая мировая война стала окончательным доказательством того, что Россия не должна надеяться на милость со стороны Европы. Он резюмирует, что отныне «западничество умерло навсегда под ударами тевтонского кулака» [2, с. 19]. Впрочем, и восточный путь, отвергающий все традиционные политические институты и ведущий в итоге к предсказанному В.С. Соловьевым «панмонголизму», Булгаков подвергает не менее яростной критике. Он, в частности, с негодованием отмечает, что в российской государственности и общественности сохраняется еще слишком много «татарщины».
Булгаков не сомневается, что именно наша страна станет однажды «Светом с Востока», который призван «духовно вести европейские народы». Все его труды пронизаны патриотизмом: в частности, знаменитая статья в «Вехах» призывает читателей «не маловерствовать», а ее автор уверен, что «русская земля спасет русский народ», поскольку «по ней стопочки Богородицыны ступали» [3, с. 38]. При этом спасение не может происходить автоматически. Оно возможно лишь в условиях «православного царства», в котором восстановлено «равновесие в отношениях церкви и государства». При такой форме устройства, как считает Булгаков, могут существовать различные идеи и политические партии, поскольку православие «есть религия свободы» [4, с. 49].
Как и все авторы сборника «Вехи», Булгаков отводит огромную роль в преобразовании России деятельности интеллигенции. Он сетует, что просвещенные круги в нашей стране поражены бациллой «повального массового индифферентизма к религии» [5, с. 30]. По мнению философа, это особо остро проявилось в годы первой русской революции, когда стало очевидно, что у интеллигенции мало общего с простым народом. Радикальные мыслители левого толка не приемлют постепенного обновления, они настаивают на строительстве Нового Иерусалима «чуть ли не завтра». Общество же глухо к таким «антихристовым началам» и «самогипнозу». Булгаков утверждает, что русского человека гораздо больше, чем хитросплетения политического устройства, волнует его внутренний мир. Вот почему философ, опираясь на выдвинутую Соловьевым идею софиологии, видит основную задачу всех социальных практик в «ософиении мира, в наполнении его религиозной мудростью и красотой» [6, с. 369].
Центральной фигурой плеяды философов, громко заявивших о себе в сборнике «Вехи», несомненно, был Н.А. Бердяев, которого на протяжении многих десятилетий интересовала сущность так называемой «русской идеи». Бердяев в своих трудах опирался на цивилизационный подход и видел мировую историю как бесконечный круговорот сил добра и зла. Он не разделял точку зрения О. Шпенглера о том, что цивилизация представляет собой последнюю, итоговую стадию развития. Философ условно определял начало XX в. как «конец Новой истории и начало Нового Средневековья». Для этой эпохи характерно торжество иррационализма, закрепощение личности всевозможными коллективами, а также «встреча Востока с Западом». Бердяев приходит к выводу о том, что «дух западной цивилизации – мещанский дух», который стал «истребителем духа вечности, духа святынь», что привело к неизбежной «варваризации» [7, с. 291]. Буржуазные идеи привели к отпадению человечества от христианства, а значит, и от гуманизма, что неизбежно приведет к установлению всемирного «царства Антихриста».
Бердяев противопоставляет Россию Западу, утверждая, что «германская идея есть идея господства, русская идея – идея братства» [8, с. 108]. В то же время он не считает, что Россия уже обогнала другие цивилизации. По словам философа, наша страна представляет собой «великий и цельный Восток-Запад по замыслу Божьему и есть неудавшийся и смешанный Восток-Запад по фактическому своему состоянию». Бердяев отмечает, что русские «по своей душевной структуре народ восточный», который «в течение двух столетий подвергался влиянию Запада» [9, с. 47].
Интересна идея философа о соотношении в различных цивилизациях мужского и женского начал: так, в странах Запада «появился мужественный дух», который смог способствовать установлению дисциплины, а в России подобные процессы не произошли, поскольку «духовная энергия русского человека вошла внутрь, в созерцание». Рассуждая о «русской душе», Бердяев приходит к выводу о том, что она «ушиблена ширью» и «не видит границ», причем подобное положение не освобождает ее, а порабощает. В результате Россия отягощена «неисчислимым количеством тезисов и антитезисов» и вполне сочетает в себе консерватизм и революционность. Например, для русских никогда не было свойственно формирование «делений, классификаций, группировок по разным сферам, как у западных людей», однако отечественный социализм – «персоналистский», а не коллективистский [10, с. 109].
В трудах Бердяева много внимания отводится проблемам патриотизма и национализма. Философ считает Россию «самой нешовинистической страной в мире», однако полагает, что подобное неприятие национализма приводит у нас к тому, что «русские почти стыдятся того, что они русские». Бердяев высоко ценил патриотический подъем, охвативший российское общество в годы Первой мировой войны. Продолжая идеи Данилевского и Леонтьева, он верил в то, что захват Константинополя и Дарданелл будет первым шагом на пути «духовного синтеза Запада и Востока» [11, с. 25].
Схожие мысли высказывал еще один бывший марксист и автор сборника «Вехи» П.Б. Струве. Свою статью 1909 г. он называл «робким диагнозом пороков России» и «слабым предчувствием моральной и политической катастрофы». Революция была неизбежна в обществе, где «конституция отсутствует в жизни, в том политическом воздухе, которым дышит обыватель внутри страны» [12, с. 137]. Также Струве считал, что интеллигенция не справляется со своей особенной культурной ролью и не смогла найти единого с народом «национального сознания».
П.И. Новгородцев полагал, что «революционного вихря» в нашей стране добиваются те, для кого «Россия была лишь костром для мирового пожара». Чтобы противостоять этим силам, граждане России должны были немедленно решить «огромной жизненной важности задачу», которая заключалась в утверждении «необходимых основ государственного бытия». Для достижения этой цели необходимо добиться «непосредственного взаимодействия власти и народа», а также «отказаться от всяких частных, групповых и партийных лозунгов». Обозначенное Новгородцевым общее дело должно было, по его мысли, «спаять воедино интеллигенцию и народ» [13, с. 203]. В противном же случае новый кровопролитный конфликт виделся ему неизбежным.
С.Л. Франк искал корни русского радикализма в истории страны. В Россию же издавна проникали западные революционные идеи, но на протяжении многих лет они не воплощались на практике, а представляли собой некий желаемый идеал. Франк называл Петра I «первым русским большевиком», утверждая, что начиная с его правления социализм стал активно проникать «в толщу народную». Философ полагал, что страны Европы получили «теократическую прививку» еще в Средние века. А вот в России пришедший из Европы социализм легко укоренился на почве теократического сознания русского народа, которому свойственна тяга к «примитивному коллективизму», проявляющемуся в нигилизме [14, с. 154]. Истинный же путь России Франк видит в торжестве консервативного мировоззрения и формировании принципиально новой формы социальной солидарности, которую он называет «соборностью».
В целом следует отметить, что при всех имеющихся различиях во взглядах веховцы сходились во мнении о том, что неудача первой русской революции была вызвана тем, что образованная часть общества поставила социальные начала выше духовных и потому оказалась в полной изоляции от народа. По мнению авторов сборника, отечественная интеллигенция заимствовала у западного общества далеко не лучшие идеи, да и те лишь «скользнули по поверхности русской души». Сущность «русской идеи» в понимании веховцев заключена внутри каждой личности, в ее связи с Богом, а потому европейские принципы материализма и атеизма простой народ нашей страны никогда не примет. Представители этого направления видели выход из духовного кризиса в отказе от нигилизма и повсеместном распространении религиозного гуманизма.
Ссылки:
-
1. Булгаков С.Н. Два града (исследования о природе общественных идеалов). М., 1911. 303 с.
-
2. Булгаков С.Н. Родина // Утро России. 1914. № 185. 5 авг.
-
3. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи.
-
4. Там же. С. 49.
-
5. Там же. С. 30.
-
6. Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1917. 416 с.
-
7. Бердяев Н.А. В защиту христианской свободы. Письмо в редакцию // Современные записки. 1925. № 24. С. 285–303.
-
8. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1915. 112 с.
-
9. Там же. С.47.
-
10. Там же. С.109.
-
11. Там же. С.25.
-
12. Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи ... С. 127–146.
-
13. Новгородцев П.И. О путях и задачах русской интеллигенции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1918. С. 198–221.
-
14. Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи ... С. 146–182.
Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 23–70.
Список литературы Веховцы о цивилизационном выборе России
- Булгаков С.Н. Два града (исследования о природе общественных идеалов). М., 1911. 303 с.
- Булгаков С.Н. Родина//Утро России. 1914. № 185. 5 авг.
- Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)//Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 23-70.
- Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1917. 416 с.
- Бердяев Н.А. В. защиту христианской свободы. Письмо в редакцию//Современные записки. 1925. № 24. С. 285-303.
- Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1915. 112 с.
- Новгородцев П.И. О путях и задачах русской интеллигенции//Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1918. С. 198-221.