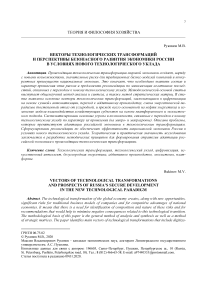Векторы технологических трансформаций и перспективы безопасного развития экономики России в условиях нового технологического уклада
Автор: Рукинов Максим Владимирович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Теория и философия хозяйства
Статья в выпуске: 1 (121), 2020 года.
Бесплатный доступ
Происходящая технологическая трансформация мировой экономики создает, наряду с новыми возможностями, значительные риски для традиционных бизнес-моделей компаний и конкурентных преимуществ национальных экономик. Это означает, что необходимо выявить состав и характер проявления этих рисков и предложить рекомендации по минимизации негативных последствий, связанных с переходом к новому технологическому укладу. Методологической основой статьи выступает общенаучный метод анализа и синтеза, а также метод стратегических матриц. В статье выявлены основные векторы технологических трансформаций, заключающиеся в цифровизации на основе «умной» автоматизации, переход к аддитивному производству, смена энергетической парадигмы (постепенный отказ от углеродной, и прежде всего основанной на нефти энергетики) и изменение модели взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе платформенного и экосистем-ного подхода. Систематизированы основные угрозы и возможности, связанные с переходом к новому технологическому укладу по характеру их проявления (на микро- и макроуровне). Описаны проблемы, которые препятствуют адаптации российской экономики к технологическим трансформациям. Сформулированы рекомендации по обеспечению эффективности национальной экономики России в условиях нового технологического уклада. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в разработке методических принципов для формирования стратегии адаптации российской экономики к происходящим технологическим трансформациям.
Технологическая трансформация, технологический уклад, цифровизация, искусственный интеллект, безуглеродная энергетика, аддитивное производство, экосистемы, платформы
Короткий адрес: https://sciup.org/148320144
IDR: 148320144
Текст научной статьи Векторы технологических трансформаций и перспективы безопасного развития экономики России в условиях нового технологического уклада
Переход к новому технологическому укладу [Глазьев, 2010; Глазьев, 2013], сопровождающийся перестройкой моделей взаимодействия между хозяйствующими субъектами и сменой поведения потребителей, создает новые возможности для предприятий и стран, которые сумеют использовать эту трансформацию в своих интересах, но при этом является источником угроз для организаций, которые слишком привязаны к своим стандартным бизнес-моделям. Эта трансформация носит подрывной характер, она резко снижает эффективность традиционных бизнес-моделей по сравнению с новыми подходами к организации бизнеса и создает риски ликвидации ряда компаний, бывших лидерами предыдущего технологического уклада, и даже целых отраслей, игравших ранее важную роль в экономике. По этой причине представляется необходимым выполнить анализ основных направлений технологических и организационных преобразований, связанных с переходом к новому технологическому укладу (ТУ) и обусловленных этим новых угроз экономической безопасности.
В данной статье мы выполним анализ вышеуказанных изменений, рассмотрим, как они влияют на экономическую безопасность России и сформулируем краткие рекомендации по адаптации отечественной экономики к новому ТУ. Наша статья носит концептуальный характер и основана на анализе научных работ и новостных источников. Мы используем преимущественно общенаучный метод анализа и синтеза.
Технологии нового уклада
Рассматриваемые трансформации чаще всего связываются с цифровизацией [Бабкин и др., 2017; Бодрунов, Демиденко, Плотников, 2018; Маркова, 2018; Плотников, 2018; Устюжанина, Сигарев, Шеин, 2017; Эпштейн, 2018], однако такой подход значительно упрощает ситуацию. Новый ТУ не исчерпывается цифровыми технологиями, хотя они играют важную роль в новой парадигме организации хозяйственной деятельности. Помимо все более широкого распространения информационнокомпьютерных технологий (ИКТ), глубокие изменения переживают технологии промышленного производства и энергетика, а также модели межорганизационных взаимодействий [Орехова, Заруцкая, 2019], [Устюжанина, Сигарев, Шеин, 2017]. Ниже мы рассмотрим эти факторы по отдельности.
Информационные технологии совершили качественный скачок, позволивший добиться значительных успехов в области создания искусственного интеллекта [Цветкова, 2017] (ИИ) и интернета вещей. Благодаря этому различные единицы техники (производственное оборудование, транспортные средства, военная техника и т.д.) могут непрерывно собирать информацию о внешней среде, обмениваться ею друг с другом без участия человека, сообщать ее центральному координирующему элементу (часто именуемому «искусственный интеллект», ИИ), который – также без участия человека, на основе заранее разработанных алгоритмов – принимает решения об оптимальной стратегии поведения в текущей ситуации и доводит эти решения до координируемых им единиц техники, которые воплощают их в жизнь. За счет этого многократно повышается скорость принятия решений, их точность и быстрота выполнения, и, как следствие, качество выполнения соответствующим производственным (транспортным, военным и т. д.) комплексом своих функций.
Цифровые («умные») технологии охватывают самые разные аспекты функционирования как экономики, так и общества в целом, а также жизни отдельного человека:
-
1. «Умный» завод, на котором производственная деятельность осуществляется с минимальным привлечением живого труда [Дородных, Курбанов, 2019; Крылатков, Калинина, 2018], [Zuehlke, 2010]. На завод в автоматическом режиме поступают заказы, формируются цифровые двойники готовых изделий, заказы на отдельные комплектующие и элементы в автоматическом режиме передаются субподрядчикам, собирается готовое изделие и передается логистическому оператору для доставки. Очередность производства и загрузка оборудования определяются автоматически, что позволяет минимизировать простои. Наличие цифровых двойников позволяет сократить время производственных испытаний, а также переналадки оборудования. Производство осуществляется фактически под заказ, что дает возможность устранить издержки, связанные с хранением сырья, комплектующих и полуфабрикатов, т.е. в полной мере реализовать потенциал организационной модели «точно в срок»;
-
2. «Умный» транспорт, обходящийся без участия человека (и, шире, «умная» логистика [Бекмурзаев, Курбанов, Курбанов, 2018]). Транспортное средство получает информацию от центрального диспетчерского пункта (функционирующего на основе ИИ) о наличии запроса на перевозку и предполагаемом маршруте, самостоятельно прибывает в точку отправления, получает там объект для перевозки (груз или пассажира) и доставляет его в точку назначения. Выбор оптимального маршрута производится путем непрерывного обмена информацией с центральным диспетчерским пунктом, который гибко отслеживает информацию на дороге. Оптимальное поведение на транспортной магистрали формируется самим транспортным средством, которое отслеживает ситуацию на магистрали в своем непосредственном окружении (при частичном участии центрального диспетчерского пункта);
-
3. «Умный» город, в котором происходит непрерывный сбор информации о транспорте (пробки, происшествия, доступность парковочных мест, загруженность транспортных средств и т.д.), безопасности, возможности проведения досуга и т.д., на основе которой центральный ИИ принимает решения (в сфере своей ответственности) и разрабатывает рекомендации для внешних пользователей (жителей города, локальных компаний и т.д.) относительно наиболее эффективного использования городских и их собственных ресурсов;
-
4. «Умный» дом, также на основе ИИ, формирующий оптимальные условия проживания человека в соответствии с установленными алгоритмами (от содействия в организации распорядка дня и управления микроклиматом до самостоятельного заказа необходимых товаров и оплаты коммунальных счетов).
Перечень, приведенный выше, разумеется, не является полным. Трансформируется энергетика, сфера финансов [Котляров, 2018], образование, медицина, государственное управление [Князьнеде-лин, Бекмурзаев, Титов, 2019], военное дело [Хазбиев, 2019] и т.д. Все перечисленное означает значительно большее вмешательство ИИ в хозяйственную, социальную и личную жизнь (с частичным устранением человека от принятия определенных решения и вытеснения его из ряда видов деятельности) и резкий рост рисков, связанных с возможностью неконтролируемого поведения или недобросовестного использования ИИ. Однако это, как предполагается, будет компенсироваться повышением качества и эффективности выполнения соответствующих процессов, большей индивидуализацией конечного продукта и освобождением человека от рутинной деятельности.
Эффективность ИИ и информационных технологий в целом будет возрастать и далее, поскольку прогнозируется прорыв в области квантовых вычислений. Создание квантового компьютера, во-первых, значительно повысит быстродействие информационных систем, и, во-вторых, позволит обеспечить практически абсолютную защиту информации.
Промышленность постепенно мигрирует в сторону аддитивного производства (3D-печати) [Ульянов, 2017; Bogers, Hadar, Bilberg, 2016], при котором, в отличие от ранее применявшихся технологических процессов, сразу формируется конечное изделие, а не заготовка, подлежащая дальнейшей обработке. Это снижает затраты материалов и повышает качество продукции. Это также значительно упрощает взаимодействие между заказчиками и изготовителями конечного продукта. Если в традиционной модели организации промышленного производства продукт выпускался на мощностях исполнителя и затем доставлялся заказчику, то новая технологическая парадигма допускает, что конечный продукт будет непосредственно изготавливаться у заказчика, на установленном у него оборудовании для аддитивного производства (т.е. на 3d-принтере). Поставщик этого продукта будет обеспечивать заказчика сырьем для 3d-печати, обслуживать принтер и периодически обновлять программное обеспечение (или предоставлять временный доступ к возможности выпуска того или иного продукта).
Аналогично, производители принтеров основной доход будут получать не от продажи оборудования, а от его обслуживания [Ульянов, 2017].
Хотя переход к аддитивному производству представляет собой технологическую инновацию, очевидно, что он содержит в себе инновацию организационную (изменяется модель взаимодействия заказчика и поставщика) и продуктовую (от продажи готового продукта поставщик переходит к обслуживанию деятельности заказчика). Речь идет о дальнейшей сервисизации промышленного производства.
В энергетике происходят два взаимосвязанных процесса [Глазьев, 2010; Глазьев, 2013; Мастепа-нов, 2019; Сазонов, Уланов, 2018]: переход к безуглеродным технологиям (декарбонизация энергетики), заключающаяся в замещении ископаемого горючего топлива (нефти и продуктов, полученных на ее основе, каменного угля и т.д.) альтернативными источниками энергии; расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнечные, ветровые, приливные и т.д. электростанции. Из традиционных способов получения электроэнергии сюда относятся гидроэлектростанции.
Будучи изначально неконкурентоспособными по цене по сравнению с традиционными источниками энергии, ВИЭ за счет совершенствования технологий, роста выпуска и законодательной поддержки постепенно приближаются по ценовым параметрам к традиционной энергетике. Присущий ВИЭ важный недостаток – нестабильность выработки энергии (из-за высокой зависимости от погодных факторов) – корректируется благодаря совершенствованию управления энергосистемами, что позволяет стабилизировать их функционирование.
Что касается безуглеродных технологий, то в первую очередь необходимо отметить непрерывный рост доли электромобилей. Этому способствует законодательная поддержка электромобилей в развитых странах (наиболее жесткое законодательное и налоговое давление на автомобили с двигателями внутреннего сгорания осуществляется в Европе, где предполагается фактически вытеснить их с рынка в ближайшие десятилетия), совершенствование технологий хранения электроэнергии и развитие инфраструктуры.
Распространению электромобилей благоприятствует сравнительная простота электродвигателей, что облегчает применение автоматизации в автомобильном транспорте (замещение водителей автопилотами). Расширение применение электромобилей связано не только с экологическими соображениями, но и с необходимостью повысить качество жизни населения. Наибольшее количество автомобилей приходится на места компактного проживания людей (города и городские агломерации). Двигатели внутреннего сгорания являются источником выхлопных газов и шума, тогда как у электродвигателей эти проблемы отсутствуют.
Еще одной революцией в энергетике является применение водорода как источника энергии [Куликов, 2019]. Сфера его использования очень широка – если электродвигатели пока представлены преимущественно на автотранспорте, то водород может использоваться на водном транспорте, в металлургии (в настоящее время тестируются доменные печи на водороде) и т.д.
Подчеркнем, что важной предпосылкой этой энергетической революции стало стремление развитых стран обеспечить свою энергетическую и экологическую безопасность [Круглова, 2018] за счет перехода к экологически чистым и потенциально намного менее опасным (по сравнению с атомной энергетикой, у которой после аварии на Фукусиме сложился крайне неблагоприятный имидж) источникам энергии, не зависящим от поставок от государств, в финансировании которых (путем закупки у них энергоносителей и выплаты сырьевой ренты) развитые страны не заинтересованы.
Наконец, происходит переход от вертикальных производственно-сбытовых цепочек к платформенным моделям организации бизнеса и экосистемам [Клейнер, 2019; Орехова, Заруцкая, 2019; Gawer, Cusumano, 2014; Parker, van Alstyne, Choudary, 2016]. Платформа обеспечивает возможность гибкого взаимодействия между большим количеством потребителей и провайдеров определенного ресурса. Изначально платформы использовались в сфере услуг (примерами могут быть гостиничная платформа Airbnb, платформа заказа такси Uber, торговая платформа Avito, платформа для подбора персонала Headhunter и т.д.) и финансов (краудфандинговые платформы), однако постепенно они распространяются и в сектор промышленного производства, позволяя заказчику найти удобного и эффективного поставщика необходимых ресурсов [Смородинская, Катуков, 2017]. Они также используются в области инновационных разработок, повышая эффективность применения инноваций (как это имеет место в случае платформы Android).
Платформы можно рассматривать как следующий этап отказа предприятий от собственных активов (предшествующим этапом можно считать использование аутсорсинга [Котляров, 2015; Курбанов, Плотников, 2012]). В отличие от аутсорсинга, где заказы размещаются у одного партнера на долгосрочной основе у одного провайдера, платформа позволяет привлекать большое количество исполнителей на разовой основе. Благодаря платформам потребители соответствующего ресурса снижают свои издержки (оплачивается только реальное использование ресурса), а провайдеры могут увеличить эффективность его использования (за счет более высокой загрузки).
Экосистемы (или, иначе, метафирмы) представляют собой совокупность фирм, координирующих свою деятельность для производства конечного продукта (или набора продуктов). В ряде случаев экосистема функционирует как совокупность компаний, объединившихся вокруг центрального ядра [Котляров, 2017], и оказывающих потребителям услуги в партнерстве с ядром и отчасти в его интересах (в России так работает экосистема «Сбербанка»). Использование такой модели снижает издержки центрального ядра на организацию непрофильных для него сервисов (поскольку их предоставлением занимаются партнеры ядра), а потребители получают доступ к более широкому набору услуг.
Использование платформ меняет не только организацию хозяйственной деятельности, но и поведение потребителей. У них исчезает потребность в постоянном владении определенными товарами – например, автомобилями: им становится проще и удобнее получать временный доступ к этому благу только на тот период, когда они испытывают в нем потребность. Это избавляет потребителей от издержек (финансовых и временных), связанных с владением соответствующим благом [Котляров, 2016]. В свою очередь, эти блага из материальных товаров фактически становятся сервисами [Невская, Баронина, 2018], что соответствует тенденции роста роли услуг в экономике.
Новый технологический уклад: возможности и угрозы для России
Эти технологические и организационные изменения создают для экономики России как новые возможности, так и новые угрозы, которые проявляются на микро- и макроуровне (см. табл). Эти возможности и риски тесно связаны друг с другом.
Таблица
Анализ возможностей и угроз, связанных с переходом к новому технологическому укладу, для национальной экономической безопасности России
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
Микроуровень |
Возможность возникновения новых компаний-лидеров (в открывающихся нишах) на национальном и глобальном уровне |
Вытеснение с рынка прежних компаний-лидеров из-за их более низкой эффективности по сравнению с фирмами, использующими новые технологии и бизнес-модели (а также из-за их несоответствия новым условиям ведения бизнеса). Захват российского рынка иностранными компаниями за счет их более высокого уровня технологического развития и больших ресурсов |
|
Макроуровень |
Возможность компенсации технологического отставания национальной экономики и завоевания нишевого технологического лидерства за счет ускоренного развития в отдельных отраслях |
Ликвидация конкурентных преимуществ и источников рентных доходов страны из-за переключения иностранных контрагентов на новые технологии (т. е. исчезновение значительной части национального экономического потенциала). Консервация и углубление технологического отставания национальной экономики из-за неспособности освоить новые технологии. Усиление технологической зависимости от зарубежных стран (из-за отсутствия собственных технологий) |
Более высокая эффективность новых технологий и новых моделей организации бизнеса создает для компаний-новичков, использующих эти технологии и бизнес-модели, возможность выхода на рынок, занятый компаниями-лидерами прежней волны. Конкурировать с этими лидерами, используя технологии прежней волны, практически невозможно, поскольку они в совершенстве освоены лидерами, а масштаб их деятельности обычно настолько велик, что новичок не может ни создать сопоста- вимые по масштабу производственные мощности (чтобы добиться соответствующего эффекта экономии на масштабе производства) из-за недостаточности средств для инвестиций, ни - тем более -обеспечить себе сопоставимый объем продаж (поскольку рынок занят лидерами, и переманить к себе клиентов исключительно сложно).
Новые, подрывные, технологии, с одной стороны, ликвидируют конкурентное преимущество прежних лидеров, а с другой стороны - на ранних стадиях своего существования сравнительно низкозатратны и упрощают выход на рынок. Однако освоение новых технологий осуществляется новыми компаниями, а не технологическими лидерами прежней волны, которые понесли значительные затраты на формирование своих производственных мощностей в соответствии с ситуацией прежнего технологического уклада, и не готовы списать эти мощности в утиль, а свои инвестиции в них - в потери. Компании-новички, которые не связаны такими инвестициями, легко формируют инновационные производственные мощности и выходят на рынок, вытесняя с него прежних лидеров.
Таким образом, происходящие технологические изменения открывают для России окно возможностей. В случае надлежаще подобранных мер стимулирования наша страна теоретически может создать новых технологических лидеров и за счет ускоренного перехода к новому ТУ ликвидировать свое технологическое отставание (поскольку придется не устранять свое отставание в рамках прежнего уклада - фактически именно эта задача решалась в ходе сталинской модернизации, - а вместе с другими государствами начинать со старта в новом ТУ).
Кроме того, в ходе происходящей технологической революции будет иметь место пересборка глобальных производственных цепочек, как с географической точки зрения (в рамках нового ТУ распределение конкурентных преимуществ между государствами будет отличаться от существующих), так и с точки зрения состава участников (поскольку сменятся компании-лидеры мировой экономики). Это создает для России возможность занять в этих новых производственных цепочках достойное место [Дементьев, Новикова, Устюжанина, 2016], позволяющее присваивать большой объем добавленной стоимости.
Фактически это означает, что России необходимо переключиться на поддержку новых технологий и инновационных компаний, чтобы таким образом создать в нашей стране будущих лидеров ТУ, а также разработать дорожную карту перехода к новому технологическому укладу и обеспечить ее ресурсами (на первых порах - преимущественно государственными, поскольку инвестиционные риски, связанные с технологической трансформацией, очень велики). При этом чем скорее будет произведен такой переход, тем с меньшими затратами он будет связан [Глазьев, 2013], и тем выше вероятность того, что положительный потенциал технологической трансформации будет полностью реализован в целях обеспечения лидерства российской экономики.
Но создание таких лидеров, как и ликвидация технологического отставания, пока являются только возможностью, для реализации которой как руководству нашей страны, так и инвестиционному сообществу нужно специально прилагать усилия, тогда как угрозы, перед лицом которых находится российская экономика, уже существует, и наступление связанных с ними негативных эффектов представляется гораздо более вероятным, чем использование благоприятных возможностей технологической трансформации. Реализации благоприятных возможностей перехода к новому ТУ препятствуют следующие факторы:
-
1. Зависимость России от иностранных поставок высокотехнологичных ресурсов, что препятствует ведению инновационных разработок. Причем это касается не только микроэлементной базы, но и исходного сырья (например, лития для аккумуляторов). В ситуации санкций (когда возможность закупки отдельных видов ресурсов отсутствует) и волатильности валютного курса проведение инновационных разработок становится сложным и затратным процессом;
-
2. Недостаточно благоприятный инвестиционный климат, препятствующий привлечению средств венчурными производственными проектами. Как следствие, авторы перспективных разработок активно вытесняются за рубеж, в результате чего эти разработки реализуются и коммерциализируются в других странах и поступают в Россию уже в виде иностранных продуктов;
-
3. Малое количество качественных рабочих мест с высокой оплатой труда, которые порождали бы потребность в систематической автоматизации и роботизации. Высокая доля в России неквалифицированных рабочих мест и сравнительно низкая оплата труда минимизируют стимулы компаний к внедрению инновационных капиталоемких и трудозамещающих технологий;
-
4. Важная проблема заключается в том, что ни отечественный бизнес, ни государственные заказчики не испытывают доверия к инновационным разработкам российских предприятий, и предпочитают покупать продукты-аналоги у иностранных производителей. Это связано с тем, что заказчики не хотят брать не себя риски, связанные с сотрудничеством с малоизвестными поставщиками, и желают приобретать продукцию, уже имеющую позитивный имидж на соответствующем рынке. В частности, как показала практика, даже после решения о том, что в производстве продукции в интересах гособоронзаказа должно использоваться отечественное оборудования, российские производители стремятся любым путем получить разрешение на приобретение иностранного станка вместо российского аналога, поскольку доверие к зарубежной продукции выше [Ульянов, 2018]. Однако в результате формируется замкнутый круг: отсутствие репутации мешает получать заказы, а при отсутствии заказов и опыта реального использования продукта невозможно сформировать репутацию;
-
5. Недооценка рисков перехода к новому ТУ, из-за чего как у государства, так и у лидеров российского рынка отсутствуют планы адаптации к новым технологическим и организационным условиям [Сечин, 2019]. В частности, отсутствуют программы разработки отечественных электромобилей, не создается необходимая для них инфраструктура, слабо поддерживаются проекты в области технологий хранения электроэнергии, наконец, пока не осуществляются инвестиции в разработку и производство природных ресурсов, необходимых в рамках нового ТУ (в частности, лития и водорода);
-
6. Действительная реализация мероприятий, связанных с переходом к новому ТУ, с одной стороны, требует, готовности брать на себя ответственность за соответствующие решения, а с другой стороны, может повлечь за собой значимые перестановки в составе российской элиты (из-за смены стратегических направлений развития экономики и нового распределения ресурсов). К сожалению, по очевидным причинам российская элита к таким шагам не готова, а в силу высокой концентрации собственности в нашей стране и большой роли государственного сектора экономики проведение соответствующих мероприятий новым игроками, не связанными с элитными группами, невозможно в силу нехватки ресурсов.
Необходимо формирование комплекса мероприятий, которые позволили бы устранить эти проблемы. К числу таких мероприятий можно отнести налоговые льготы для стратегических проектов (в т.ч. для проектов освоения природных ресурсов – лития, редкоземельных металлов, водорода и т.д.), субсидирование инновационных разработок в прорывных отраслях, преференции при закупках отечественной инновационной продукции, причем не только в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд, но и для закупок компаний с государственным участием (это значительно расширило бы потенциальный рынок сбыта для российских производителей), а также программы поддержки экспорта отечественных инновационных товаров. Также необходимо оказывать содействие в переходе российских компаний на инновационные производственные и организационные технологии. В частности, проводимое перевооружение российской промышленности должно происходить на основе новых цифровых и аддитивных технологий, а не просто путем закупки станков. Необходимо финансировать часть инвестиций, связанных с таким техническим перевооружением.
Важную роль в реализации перехода к новому ТУ могут сыграть Национальная технологическая инициатива (НТИ) и технологические платформы [Филин, 2019]. Однако пока состав предложенных направлений развития в рамках НТИ и одобренных технологических платформы вызывает вопросы. В частности, налицо избыточное внимание к цифровизации экономики, тогда как другие аспекты перехода к новому ТУ в этих платформах не учитывается. Большое значение придается сервисной составляющей (например, такие направления, как HealthNet), но при этом во многом за рамками рассмотрения остается производство. При таком подходе есть риск построения высокотехнологичной экономики услуг, опирающейся на иностранные производственные и технологические ресурсы. Как следствие, в этом случае сырьевой характер экономики преодолен не будет, а затраченные бюджетные средства не создадут мультипликативного эффекта.
Естественным следствием перехода к новому ТУ является вытеснение с рынка (или значительное ослабление) компаний, которые не смогут адаптироваться к новым технологическим и организационным условиям. Среди этих компаний есть предприятия, на которых основывается национальная экономическая безопасность России в настоящее время (нефтегазовая отрасль). Необходимо, чтобы эти компании либо адаптировались к условиям нового ТУ, либо замещались инновационными российскими компаниями-лидерами новой технологической волны. В противном случае они будут устране- ны с рынка иностранными фирмами, что причинит нашей национальной экономической безопасности значительный ущерб.
Заключение
Проделанный выше анализ позволяет утверждать следующее:
-
• происходящая технологическая трансформация представляет собой переход к новому технологическому укладу и не сводится к одной цифровизации экономики. Важными составляющими этого уклада являются использование аддитивных технологий, трансформация энергетики (переход к инновационным энергоносителям и внедрение зеленой энергетики), распространение новых моделей организации бизнеса и потребления продукции;
-
• переход к новому ТУ создает для национальной экономической безопасности нашей страны как важные возможности, так и высокие риски. В случае реализации благоприятного сценария Россия сможет ликвидировать свое технологическое отставание и оптимизировать свое положение в глобальных цепочках создания стоимости. Однако если будет реализован неблагоприятный вариант, то наша страна не только усилит свое технологическое отставание от ведущих мировых государств (в т. ч. и от наших геополитических соперников) и попадет в еще большую зависимость от поставок высокотехнологичных ресурсов, но и утратит свои существующие конкурентные преимущества и источники рентных платежей. Это значительно ослабит экономический потенциал нашей страны, подорвет (возможно, критически) национальную экономическую безопасность и оборонную мощь России;
-
• существующая институциональная среда в России делает более вероятным реализацию негативного сценария. Для устранения этого риска необходима разработка подкрепленной финансовыми ресурсами дорожной карты перехода к новому технологическому укладу. При этом необходимо отчетливое понимание того, что новый ТУ не сводится к цифровизации, а представляет собой комплексное явление, охватывающее широкий спектр информационных, промышленных и организационных технологий, и этот комплексный характер должен быть отражен в рекомендуемой дорожной карте;
-
• снизить отраслевые риски, связанные с переходом к новому ТУ, можно при помощи развития вертикальных производственных цепочек на основе нефтегазового сырья, инновационной реиндустриализации национальной экономики на основе «умной» автоматизации и аддитивных производств, развития производства и добычи новых энергетических ресурсов (прежде всего, лития и водорода) и кооперации с иностранными государствами в области технологий промышленного ИИ.
Список литературы Векторы технологических трансформаций и перспективы безопасного развития экономики России в условиях нового технологического уклада
- Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 3. С. 9-25.
- Бекмурзаев И.Д., Курбанов А.Х., Курбанов Т.Х. Направления и этапы построения логистических систем на основе использования цифровых технологий // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2018. № 4. С. 5-9.
- Бодрунов С.Д. Реиндустриализация в условиях новой технологической революции: дорога в будущее // Управленец. 2019. Т. 10. № 5. С. 2-8.
- Бодрунов С.Д., Демиденко Д.С., Плотников В.А. Реиндустриализация и становление "цифровой экономики": гармонизация тенденций через процесс инновационного развития // Управленческое консультирование. 2018. № 2. С. 43-54.
- Глазьев С.Ю. Перспективы становления в мире нового VI технологического уклада // Мир (Модернизация. Инновации. Развитие). 2010. № 2. С. 4-10.