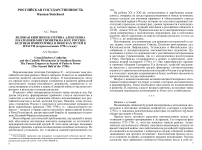Великая княгиня Екатерина Алексеевна и католики-миссионеры на юге России: будущая императрица в поисках путей к власти (вторая половина 1750-х годов)
Автор: Ряжев Андрей Сергеевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 64, 2020 года.
Бесплатный доступ
Впервые в отечественной историографии рассматриваются отношения Екатерины II с католиками в ранний период ее политической биографии, в ее бытность великой княгиней. Контакты будущей императрицы с католическими кругами изучены на основе неопубликованных документов российского и зарубежного происхождения, собранных Коллегией иностранных дел. Особое внимание уделено попыткам католических миссионеров опереться на поддержку великой княгини Екатерины для развития миссионерской работы на южных окраинах России и ближайшем к нему Закавказье. Охарактеризован политико-дипломатический контекст католических связей Екатерины, вклад австрийской дипломатии в их складывание, а также участие этом папства. В статье описано, как активность миссионеров в России, во многом явившаяся следствием союза России с Австрийской монархией, порождала религиозные конфликты на местах, в частности, между католиками и армяно-григоринами. Эти конфликты требовали от российских центральных и местных властей немалых усилий по их сглаживанию. Важным фактором вовлечения коронованных особ в вероисповедную политику служило наличие сформированной европеизированной католической среды как в столице и в придворных кругах, так и в российских губерниях, прежде всего на юге страны. В итоге автор приходит к выводу, что связи Екатерины в ее бытность великой княгиней с католиками носили устойчивый характер. Сближение Екатерины с католиками отражало ее политическую самостоятельность и поиски внешней поддержки в преддверии решительных шагов в борьбе за власть.
Елизавета петровна, екатерина ii, коллегия иностранных дел, дипломатия, религиозная политика, православие, русская православная церковь, армянская апостольская церковь, католицизм, католический миссионер, миссионерство, астрахан
Короткий адрес: https://sciup.org/149127055
IDR: 149127055 | DOI: 10.24411/2072-9286-2020-00008
Текст научной статьи Великая княгиня Екатерина Алексеевна и католики-миссионеры на юге России: будущая императрица в поисках путей к власти (вторая половина 1750-х годов)
Grand Duchess Catherine and the Catholic Missionaries in Southern Russia: The Future Empress in Search of Paths to Power (The Second Half of the 1750s)
Вероисповедная политика Екатерины II - актуальная тема российской истории раннего Нового времени. Одним из ее важнейших аспектов является католический вопрос. В екатерининскую эпоху он, прежде всего, подразумевал сохранение и развитие привилегий католического отряда российского дворянства, влившегося в господствовавшее сословие в период Северной войны и численно возросшего в результате польских разделов.
В предмет забот императрицы входили также контроль над Орденом иезуитов, формирование правового статуса католичества и униатства и системы управления обоими исповеданиями под российской властью в целом, включая Грузию. Наконец, сюда относились отношения России с папством и католическими странами на фоне европейских кризисов 1760-1790-х гг: «диссидентского вопроса» - вопроса о правах протестантской и православной шляхты в Речи Посполитой, австро-прусской борьбы за германскую гегемонию, Великой Французской революции.
Многообразие католической проблематики, внутренней и внешней, обусловило постоянные контакты монархини со столичной и придворной католической средой. В этой связи интерес вызывают коренные причины и время возникновения подобных контактов. Их необходимо установить, что и является задачей предлагаемой ста- тьи.
На рубеже XX и XXI вв. отечественные и зарубежные специалисты, опираясь на труды предшественников и новые источники, немало сделали для изучения правового и общественного статуса католической церкви в России, истории тех или иных церковных институций, (приходов, нунциатуры), уровня терпимости к католицизму и, соответственно, позиций католиков в российском обществе в XVIII - начале XIX вв.1 Применительно же к екатерининским годам связи императрицы с католическим окружением, как и собственно наличие такого окружения до кануна польских разделов, то есть до 1770-х гг., не затрагивались.
Источниками, послужившими для решения поставленной в статье задачи, стали документы Синода, Коллегии иностранных дел, Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, собранные в делопроизводстве дипломатического ведомства. Дополнением служит его переписка как с российскими центральными и местными учреждениями, так и с католическими институциями в Риме. Материалы, отложившиеся в копиях и оригиналах, датированы второй половиной 1750-х гг.2 Они характеризуют предмет и причины общения Екатерины II в бытность супругой наследника престола с католической средой, фиксируют соответствующие оценки со стороны католических институций в России и за рубежом, и в этом свете значение сохранившихся бумаг, особенно иноземного происхождения, трудно переоценить.
Вопрос о взаимоотношениях великой княгини Екатерины с католиками подразумевает изучение условий, в которых они намечались и формировались. Затем необходимо проследить их возникновение и развитие. И, наконец, следует вскрыть причины, по которым такие отношения оказывались возможными и, более того, стабильными.
* * *
Начнем с условий.
Налаживание общения будущей императрицы с католиками происходило в обстановке затяжных конфликтов, в которые к середине 1750-х гг. оказались вовлеченными некоторые из наиболее крупных общин католиков в России.
Прежде всего, возникло серьезное противостояние между католиками и армяно-григорианами в Астрахани. Его открытая фаза охватила 1755-1761 гг., хотя все началось гораздо раньше. Астраханскую католическую общину капуцины-миссионеры создали во время Северной войны: они действовали на российской территории, но опирались на поддержку с собратьев по ордену в Персии, издавна занимавших там прочное положение3. Католический приход состоял в основном из армян, оставивших прежнее исповедание. Отсюда соседство двух армянских сообществ объективно несло в себе не- гативный потенциал: нахождение в одной и той же экономической нише обрекало их на острейшую социальную конкуренцию. К тому же армяно-григориане категорически не принимали соплеменников-ренегатов, ни здешних, ни переселившихся в Астрахань из Персии, и религиозная рознь только подливала масла в огонь. Подспудные и локальные трения, борьба за влияние на верующих начались уже в 1720-е гг. с тем, чтобы спустя десятилетия стать достоянием гласности в высших сферах.
Первый шаг к этому сделали астраханские капуцины-миссионеры Ф. Сотер и Ф.-М. Агроно. Они составили две обширные жалобы, в которых дали свою трактовку недавних событий 1755 г. В изложении патеров дело развивалось следующим образом. Их прихожанку-католичку «против воли пастырской в жену себе взял... армянский поп» и понуждал к «своему закону». Астраханский губернатор, разбиравший казус, приказал каждому из супругов посещать и детей своего пола крестить в «своей» церкви, но «оного армянский архиерей чинить не хотел». Аналогичным увещеваниям астраханского греко-российского епископа, на суд коего патеры также приглашали оппонента, тот равно не внял, после чего капуцины решили искать помощи наверху, в столице4.
В апреле того же года, как можно судить по указу Синода в Коллегию иностранных дел от 30 марта 1756 г, со встречной жалобой в Астраханскую греко-российскую консисторию вошел и пресловутый «армянский архиерей» - астраханский епископ Стефан. Он утверждал, что именно капуцины покушаются на его паству как в городе и других местах России, так и за ее пределами. Миссионерами, добавлял преосвященный, совращено уже десять человек, более того, зафиксирован и случай насильственного крещения в католичество5.
Консистория переправила жалобу в Астраханскую губернскую канцелярию, не желая входить в распри иноверцев6.
Однако спустя некоторое время духовные власти Астрахани получили новую жалобу армяно-григорианского иерарха на капуцинов, помеченную 21 сентября 1755 г. Отступая перед подобной настойчивостью, консистория адресовала вопрос Синоду, куда в декабре 1755 г. вызвали и самого Стефана7.
Параллельно с возникновением обозначенных трений завязался и другой конфликт, а именно на севере, в Санкт-Петербурге.
Жертвой обстоятельств вновь стала католическая община, хотя здесь ее, в отличие от Астрахани, постигло не внешнее, а внутреннее неустройство. Виновником явился католический супериор (старший миссионер) Ф.А. Торино, жаждавший единолично распоряжаться средствами столичного прихода. Охваченный стремлением наложить руку на приходские деньги, супериор игнорировал обращения в католические инстанции со стороны прихожан, в силу чего тем пришлось вспомнить и о верховных российских прерога-8
тивах. Апелляции мирян-католиков подробно изложены в протоколе Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел от 2 апреля 1756 г, занимавшейся их рассмотрением. Коллегия, как понятно из документа, на протяжении 1755 г. советовала супериору принять во внимание позицию паствы и дать ей отчет в расходах, но Торино рекомендаций с российской стороны также не принял.
В течение следующего года, 1756-го, споры разгорелись еще более и, поскольку эти споры затрагивали интересы преимущественно иностранных подданных, то они оказались предметом ведения Коллегии иностранных дел. Дипломатическое ведомство почерпнуло первые сведения об астраханских неустройствах из донесения Астраханской губернской канцелярии от 13 февраля 1756 г. Там же говорилось о том, что и армяне, и капуцины намерены добиваться решения в столице. Коллегия санкционировала приезд капуцинов, однако те предварительно передали прошения от 4 и 11 марта 1756 г. в Синод, поскольку там уже находились армянские жалобы, после чего только и «объявили себя у чужестранных дел» - прибыли в коллежское присутствие8.
В одной из указанных челобитных, адресованной на имя императрицы Елизаветы Петровны, патеры просили о полной свободе рук в отношении неправославных «чужестранцев» на территории России: «а когда мы из армянского, персицкого, турецкого, арапского и протчих законов будущих по случаям в Астрахани не подданных Вашему Императорскому Величеству в свой римский закон по их добровольному желанию окрестим, о том оному архиерею в судебных местах извещать на нас запретить»9.
Синодский указ в Коллегию иностранных дел от 30 марта 1756 г. отразил отказ духовного ведомства от вмешательства «в таковые споры между иноверными»: здесь содержались рекомендации светским учреждениям внушить конфликтующим сторонам «соблюдать» лишь собственную паству, не захватывая чужой. Вместе с тем Синод дал Иностранной коллегии поручение «выведать по случаю», действительно ли капуцины крестили «в свой закон» русских подданных, как о том доносил армяно-григорианский епископ Стефан10.
На этот указ капуцины отреагировали немедленно, подав в коллегию новое прошение на высочайшее имя. В нем утверждалось, что миссионеры не нарушали российских законов, а посему не приемлют постановления, признающего их неправыми наряду с ответчиками: «ежели б толко армянам одним сказано было [что чужую паству] превращать [в свою веру] отнюдь не должно, то сие для них наказанием казалось бы», тогда как теперь оппоненты фактически избавлены от порицания11.
Дабы обратить ситуацию себе на пользу, капуцины пошли на серьезный шаг. Они выдвинули против оппонентов обвинение в диверсии против православия, указывая, что у астраханских ар-мяно-григориан в ходу книги, «в которых, хотя несколько, против
Ея Императорского Величества или против веры здешней империи упоминается» и изъявляя готовность одну из книг «с некоторым малым изъяснением представить»12.
Дело, начавшееся как местная соседская свара, все более становилось предметом внимания в столице, приобретая к тому же политический оборот.
Весной-летом 1756 г. градус напряжения возрастал и среди католиков северной столицы, где миряне выдвинули клирика в противовес супериору. Тот, однако, смог найти общий язык с частью прихода, перетянув ее на свою сторону. Ситуация охарактеризована в промемории Конгрегации Пропаганды Веры (Sacra Congregatio de Propaganda Fide), составленной для «Его Преизящества кардинала Александра Албани». Александр (Алессандро) Албани был одним из префектов конгрегации и принадлежал на тот период к ее первым лицам. Именно он и переслал бумагу российскому канцлеру А.П. Бестужеву-Рюмину. Перевод промемории, сохранившийся в Коллегии иностранных дел, не содержит даты, но, судя по изложению событий, текст был написан не ранее 17 июня 1756 г. В нем сказано о «произшедших... у патера Карла Пудовика из Ниццы с патером Фрацеском Антонием Торинцом спорах» и о том, что «от них разделилося тамошнее католическое общество...»13.
Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, изучавшая обстановку в общине, признала восстановление порядка невозможным, если инициаторы ссоры останутся на своих местах, и 2 апреля 1756 г. постановила в шесть недель выслать обоих клириков из России14.
Католические власти также полагали, что патерам, устроившим публичное противостояние, должно оставить проповедничество в Санкт-Петербурге и явиться для разбирательства прямиком в Рим15. В мае 1756 г. Конгрегация Пропаганды Веры представила соответствующие предписания, попросив вице-канцлера М.И. Воронцова выдать их на руки обоим. Супериор действительно ознакомился с приказом об отзыве, известив конгрегацию, что ждет лишь прибытия супериора-преемника, «патера Доминика из Горы Маренца», чтобы передать ему ключи и архив16.
После приезда преемника Торино, тем не менее, остался в Санкт-Петербурге, пренебрегая и следующим приказом Конгрегации Пропаганды Веры, который на этот раз взялся передать имперский посол граф Н. Эстергази (Miklos/Nicolas Esterhazy). Новоиспеченный супериор просил в данной связи российского вице-канцлера «от себя приказать... оному патеру» получить очередное письмо об отзыве и покинуть Россию17.
Конфликты, таким образом, разгорались, и усилия Коллегии иностранных дел по их урегулированию оказывались тщетными. 7 августа 1756 г. коллегия выдала Астраханской губернской канцелярии указ о запрете иноверцам приводить в свою веру кого бы то ю ни было, пусть и «не подданных российских», стремясь тем самым даже и после доноса капуцинов по поводу запретных книг армян охладить страсти18. Но обращение епископа Стефана от 12 августа 1756 г. на имя Елизаветы Петровны, напротив, их весьма подогрело: армянский архиерей доложил о совращении капуцинами православных - «женки русской» и крещеного татарина19.
Подобные обвинения прозвучали весьма серьезно, поскольку ущемляли престиж и затрагивали установленные прерогативы Русской православной церкви. Посему было решено потребовать в ответ на претензии Стефана письменных показаний20.
Астраханским капуцинам, пребывавшим в Санкт-Петербурге и вновь вызванным в Коллегию иностранных дел, объявили, что ныне речь пойдет отнюдь не об их споре с армянами: «сие в превращении и крещении в свою веру российской природы подданных, яко государственное дело, от их партикулярной споры отличность имеет, то и надлежит по такому доносу без отлагательства с них ответ взять...»21.
Осознав внезапный оборот, один из монахов, Ф. Сотер немедленно заявил о желании выехать из России в Турцию, причем через Кизляр и далее через «Тефлис». Уклончивость патера представилась весьма подозрительной сама по себе. Согласие на выезд, впрочем, последовало, но бесконтрольным путешествиям «миссионара» по стране положили конец. Его отправили немедленно «прямым путем», издавна налаженным в России для всех, кто ехал в Турцию из Санкт-Петербурга посуху - через Москву в Киев и оттуда за границу, полагая к тому же «иметь за ним присмотр», пока монах будет находиться на российской территории22.
Вскоре появился повод для высылки и второго подозреваемого - патера Ф.М. Агроно. Вместо объяснений, которых требовала Коллегия иностранных дел, он направил личное послание вице-канцлеру М.И. Воронову, в котором просил помощи против «диоскуровой ереси» в Астрахани23. Александрийский патриарх Диоскор, живший в V в., известен как влиятельный адепт еретических учений, выросших из монофизитства, исповедуемого Армянской апостольской церковью. Давая такое название оппонентам, патер подчеркивал несходство армяно-григорианства с доктринами католичества и православия и тем стремился придать еще больший вес ранее высказанным политическим обвинениям.
Кроме того, оба миссионера составили и дополнительное обращение к вице-канцлеру. В документе они напоминали о том, что миссию патронирует австрийская дипломатия, и намекали на возможные осложнения между обеими державами в случае невыгоды результатов астраханского конфликта для миссионеров24.
Здесь патеры расставляли акценты со знанием дела. В доноше-нии Коллегии иностранных дел от 1 сентября 1757 г. в Синод говорилось о том же самом: давление на миссионеров может затруднить союзнические отношения России с австрийскими Габсбургами, поэтому предпочтительно выслать обвиняемых за рубеж, следствие же о незаконных переводах в католичество спустить на тормозах. По форме же обе апелляции патеров к материям высокой политики представляли собой неслыханную дерзость, в сущности, шантаж, чего российские власти оставить без внимания не могли. В итоге выдворение миссионеров оказалось предопределено: в октябре «патер Франциск Мария» получил вызов в Коллегию иностранных дел и уведомление о предстоящей высылке из России с запретом въезжать вновь. То же постановили и насчет Ф. Сотера, ранее уже покинувшего страну25.
Что касается распри в Астрахани, то обеим сторонам по известным соображениям предписали отказаться от взаимных обвинений. Указ Коллегии иностранных дел Астраханскому губернатору А.С. Жилину от 28 февраля 1758 г. гласил: «желательно было б, чтоб такие ссоры... [были] вовсе пресечены, и им спокойное и безмятежное пребывание доставлено было.. ,»26.
Конфликт, впрочем, продолжался, и вызвал, как ни старалась этого избежать российская дипломатия, протесты «цесарского посла», из-за чего возникла необходимость готовить ответную убедительную ноту с объяснениями (она датирована 1-м апреля 1759 г.).27
Оставалась далекой от разрешения и ситуация в Санкт-Петербурге. Супериор «патер Доминик» в письме от 21 июля 1758 г. информировал канцлера М.И. Воронцова (он сменил на посту А.П. Бестужева-Рюмина, угодившего в опалу и лишенного чинов): капуцин Ф.М. Торино по-прежнему живет в столице «с надеждой остаться здесь» и имеет сторонников среди прихожан28.
Отношения Екатерины с католической средой, сложившиеся в столь неоднозначных условиях, зафиксированы в цитированной ранее промемории Конгрегации Пропаганды Веры. Автор документа, задавшись вопросом о причинах длительного сохранения непорядков в общине северной столицы, в поисках ответа констатировал: «...Бывший при российском дворе послом от двора польского господин Понятовский уведомил кардинала Архинта о старательствах великого князя и великой княгини, чтобы учинена была какая-либо честь тому священнику с прибавлением такового слова: что ежели их рекомендации возимеют к себе те уважения, коих они ожидали, то церковь католическая, там [В России.-Л.Р.] находящаяся, имела бы надежду на их протекцию...»29. Именно в расчете на покровительство Торино «веема удалялся от пользования себя таковыми ласковыми ему внушениями» католических начальников на предмет отъезда в Рим и «продолжал пробытие свое в Петербурге, да может статься, что и для прибратия еще между тех к себе партии: что ясно оказывается нс поданного господину вице-канцлеру в последние от некоторых италиянцов и французов и сообщенного Преизящнейшему господину кардиналу Албани писма» .. ,»30.
Приводимый документ недвусмысленно давал понять: разжалованный католический супериор в России находился со времени отставки под покровительством великокняжеской супружеской четы, что и позволило ему оставаться в Санкт-Петербурге и вести борьбу за влияние на прихожан-католиков. Налицо, таким образом, весьма ценное свидетельство источника, обозначающее к тому же временной отрезок, в течение которого к Екатерине протянулась ниточка от католиков.
Это первое четкое показание источников об альянсе великой княгини Екатерины Алексеевны с католиками, сопряженном к тому же с гарантиями для всего исповедания с ее стороны. Добавим, что это единственное упоминание об участии Екатерины в делах католической общины совместно с супругом - наследником престола великим князем Петром Федоровичем. В прочих эпизодах, касавшихся столичных католических перипетий, упоминается только великая княгиня.
Не случайна и активная роль саксонско-польского посла С. Понятовского (Stanislaw August Poniatowski), отмеченная Конгрегацией Пропаганды Веры. В системе дипломатических связей, оказывавших поддержку католикам, в частности, католическим миссионерам в России, он занимал далеко не рядовое место. Сведения о дальнейших событиях это в полной мере подтверждают.
29 мая 1758 г. на пограничном форпосте близ г. Васильков под Киевом при попытке пересечь границу Российской империи задержали капуцина Ф. Сотера, годом ранее попавшего под подозрение в нарушении правил миссионерской работы и тогда же спешно покинувшего страну. На руках он имел паспорта от австро-венгерских властей и русского посла в Вене. Патер оставался нежелательной персоной в России, через границу его не пропустили, более того -как человека подозрительного его подвергли обыску и конфисковали имевшиеся при нем письма. В сохранившемся реестре бумаг Ф. Сотера отмечены, в частности, восемь рекомендательных писем, и круг адресатов писем примечателен: канцлер М.И. Воронцов, сенатор П.И. Шувалов, комендант г. Глухов генерал-майор И. де ла Тур, послы в России - маркиз де Лопиталь (Paul-Francois Galluci, marquis de L’Hopital), представитель Франции, и уже известный С. Понятовский. Рекомендательными письмами к С. Понятовскому монах запасся наиболее основательно: их насчитывалось четыре31. Присутствие в списке коменданта - начальника гарнизона - в городе, где находилась одна из двух резиденций украинского гетмана, также не случайность: из дальнейшего изложения понятно, что генерал был надежным радетелем миссионеров, предоставлявшим паспорта для проезда в южные области России.
Кроме того, Ф. Сотер вез и частные письма от разных лиц. Перечень их адресатов небезыинтересен, поскольку обозначает и круг знакомств миссионера, и социальную среду, вращаясь в которой, он мог обрести помощь в России: камергер римско-императорского двора и компаньон посла Эстергази граф Кеглович (в другом упоминании Кеглевич), «графиня Кетлерова», два капуцина-миссионера, осевшие на российском юге - Сатурнин в г. Нежин и Ромуальд в Астрахани. Фигурировало и письмо некой Василисе Ершевой «в дом П.И. Шувалова», начинавшееся обращением «любезная сестрица», и «письмо армянское»32.
В попытках проникнуть в Россию патер проявил настойчивость, и неудача на русской границе его не обескуражила: из-под Киева он двинулся через Польшу в Данциг, сел в тамошнем порту на корабль и прибыл в Санкт-Петербург. Здесь он настойчиво искал контактов с М.И. Воронцовым и С. Понятовским, прося содействия у посла Эстергази, но не преуспел: «цесарский» представитель, хотя и протежировал миссионерам, не хотел помогать человеку без рекомендаций, к тому же незаконно находившемуся в стране пребывания33.
Желание миссионера опереться на поддержку С. Понятовского и получить содействие со стороны великой княгини, подобное тому, которое она оказывала патеру Ф.А. Торино, таким образом, налицо. Информантом Ф. Сотера выступил кардинал Архинт - партнер С. Понятовского, фигурировавший в источниках в связи с казусом скандального петербургского супериора: именно упомянутый прелат и выдал одну из тех рекомендаций, которые Ф. Сотер вез польскому послу и которых лишился на форпосте под Киевом34.
Отчаянные попытки Ф. Сотера попасть в Россию вполне объяснимы. Пребывание на русском юге состояло в числе приоритетов капуцинов, строивших планы расширения присутствия в Закавказье, поэтому орден хотел вновь задействовать опытного миссионера, к тому же отлично знакомого с местными условиями. Собственно же миссионерство Ордена капуцинов значилось в арсенале средств австрийской дипломатии. В ее расчетах посол С. Понятовский оказывался не последней фигурой.
Паспорт в Россию Ф. Сотеру выдал Г.-К. Кайзерлинг, российский посол при австрийском дворе. Из документов Коллегии иностранных дел, посвященных астраханскому конфликту, известно об аналогичных случаях. Вот фрагмент из показаний миссионеров, в 1761 г. допрошенных в Астрахани. Три монаха прибыли в город «з данными им от находящегося в Москве римского католицкого монастыря префектов пропускными писмами, также от глуховского коменданта генерал-майора Ивана Делатура [Де ла Тура, фигурировавшего в письмах миссионера Ф. Сотера. - И.Р.], царицынского коменданта полковника Чистюнина и из Лифляндской генерал-губернаторской канцелярии пашпортами, приезд же их в Россию последовал по указу римского папы». Миссионеры добирались из Европы до Астрахани разными путями, но во всех описаниях их странствий есть два совпадения: остановка в Вене и паспорт от Г.-К. Кайзерлинга35.
Иными словами, посол долгие годы исправно обеспечивал мис- сионеров путевыми документами. Это отвечало планам венского двора, да и для посла служило занятием далеко не проходным: Г.-К. Кайзерлинг зарекомендовал себя при А.П. Бестужеве-Рюмине сторонником русско-австрийского союза и так называемой «австрийской партии» при русском дворе. Некогда он был домашним учителем и воспитателем С. Понятовского и сохранил на него влияние до конца своих дней.
В конце 1762 г. Г.-К. Кайзерлинга определили послом в Варшаву, где он способствовал избранию С. Понятовского королем Речи Посполитой, работая при польском дворе, в частности, в решении «диссидентского вопроса» - вопроса о политических правах православной и протестантской шляхты в равной степени на российские и австрийские интересы. Отсюда налицо проавстрийский тандем при русском дворе, упрочивавший по мере сил положение австрийских миссионеров в России. Доверительные же отношения, сложившиеся между С. Понятовским и великой княгиней Екатериной Алексеевной, делали того в изучаемые годы идеальным посредником между ней и католическими сферами, способным, в частности, ввести столь высокопоставленную особу - одно из центральных лиц российского «малого двора» - в круг проблем и интересов столичной католической общины.
Взаимосвязь казусов Ф.А. Торино и Ф. Сотера, была очевидной и для российской дипломатии, как было очевидным для нее и то, что она покоится на участии именно великой княгини в католических делах.
Екатерина Алексеевна тогда переживала не лучшие времена: после опалы А.П. Бестужева-Рюмина, ее теневого придворного наставника, она пребывала в центре негативного внимания императрицы Елизаветы Петровны, с большим подозрением относившейся к политической активности супруги наследника престола.
Поскольку Ф. Сотер за несколько месяцев пребывания в Санкт-Петербурге так и не вышел ни на С. Понятовского, ни на Екатерину, власти намеревались взять нежеланного гостя под стражу, вывезти в Кронштадт и принудительно посадить на первый же корабль, шедший в Европу. Известно, однако, что 1/11 сентября 1758 г. капуцин еще пребывал в столице: дата стоит под его благодарственным письмом М.И. Воронцову об окончании «нашего с армянами дела»36.
В отношении же Ф.А. Торино канцлер М.И. Воронцов не решался предпринять какие бы то ни было действия. Продержав у себя два года письмо супериора патера Доминика, адресованное Ф.А. Торино и извещавшее того об отставке и отзыве в Рим, сановник надумал вернуть его адресанту. «NB: упоминаемое писмо к патеру Антонию Франциску Туринцу Его Сиятельство изволил у себя оставить с тем, чтоб обратно отдать патеру Доменику, супериору католицкой церкви», - гласит приписка на русском экземпляре письма Доминика, датированная тем же днем, что и последнее письмо Ф. Сотера на имя М.И. Воронцова, то есть 11 сентября 1758 г.37
Стойкость Екатерины Алексеевны в вопросе о Ф.А.Торино, ставшей главным препятствием для удаления супериора из России, раскрывают новые промемории Конгрегации Пропаганды Веры, поступавшие своим порядком в Коллегию иностранных дел.
25 ноября 1758 г. кардинал А. Албани направил российскому канцлеру новую бумагу с резким осуждением Ф.А. Торино и просьбой содействовать прекращению раздоров в приходе Санкт-Петербурга38. В другой промемории, приложенной к письму прелата от 12 декабря 1759 г. М.И. Воронцову, говорилось, что патер Ф.А. Торино давно заслужил порицания, «чего ради не преминула бы Священная Конгрегация употребить духовных наказаний... естьли бы она не восхотела за лучшее возьиметь некое терпение ко уважению достопочтенных Ее Императорского Высочества Великой княгини благоповедении, нам известным из писем господина великого канцлера и патера Префекта учинившихся»39.
Причины екатерининского упорства были, как представляется, весьма значимыми. Но Конгрегация Пропаганды Веры глубоко не «копала»: для нее все сводилось к амбициям молодой представительницы правящего дома, и посему шел поиск решения, не обидного для последней и не способного отвратить ее от Рима вообще. В этой связи деятели конгрегации предложили следующий выход из сложившегося положения: повлиять на Торино, воздействовать на него, дабы он сам отказался от покровительства высокой особы и покинул Санкт-Петербург. Тогда, обещала конгрегация, и клирик не понесет наказания за упрямство, и самолюбие великой княгини, обещавшей защищать патера, не будет, как представлялось из Рима, уязвлено40.
Очередная промемория конгрегации «для его Преизящества кардинала Александра Албани» демонстрировала, что католические власти оказались близки к осуществлению предложенного плана. Текст документа не содержит даты, по логике же событий он является более поздним по отношению к цитированным выше бумагам. В промемории значилось: «знатнейшие оные особы... льстивыми онаго священника поступками иногда обманувшись», покровительствовали ему раньше, но теперь «отложили свое ходатайство, а за лучшее признали установиться на благоразумных внушениях господина великого канцлера»41.
Екатерина могла поддаваться давлению: после отправки в ссылку опального А.П. Бестужева-Рюмина и вынужденного отъезда С. Понятовского из России она оказалась в известной изоляции, почему тяжесть пресловутых «благоразумных внушений» оказывалась велика. Впрочем, самой Екатерине это представлялось тактическим отступлением, необходимым лишь для того, чтобы выиграть время и начать борьбу вновь. Выйти из «дела Торино» она вряд ли могла.
И вот почему.
Екатерину, очевидно, не устраивал имевшийся на тот период при русском дворе конъюнктурный выбор между ориентацией на прусский или австрийский двор (за которым, как в случае с тем же А.П. Бестужевым-Рюминым, вставал и двор сент-джеймский). Настраиваясь на борьбу за престол, она искала и новые возможности, новые опоры. Католическая дипломатия в целом, курировавшаяся папством и имевшая возможность действовать открыто благодаря сформированной в России католической европеизированной среде, вполне могла выступить в качестве искомой опоры: деньги, связи, отлаженные в Европе «технологии власти». О ресурсах папской и, шире, католической дипломатии Екатерина знала очень хорошо. Столь далеко шедшие расчеты порождали интерес к католическим сферам, и порвать с последними под воздействием чьих бы то ни было «благоразумных внушений» она применительно к моменту не могла.
О политических контактах Екатерины с католиками в научной литературе ранее не упоминалось. Это - новая, неизвестная страница ранней биографии российской императрицы.
Вместе с тем выявленные факты, при всей их новизне, не выбиваются из привычного контекста, окружавшего молодую Екатерину.
Миссионерская пропаганда на южных и юго-восточных окраинах Российской империи была составной частью стратегии австрийских Габсбургов по проникновению на Восток, выстраивавшейся ими с конца XVII в. Канцлер А.П. Бестужев-Рюмин, негласный опекун великой княгини, посол в Вене Г.-К. Кайзерлинг, пожизненный куратор С. Понятовского, выступали носителями «австрийской системы» - союза с Австрийской монархией. Отсюда свобода рук «цесарской» дипломатии, курировавшей миссионеров и добивавшейся повышения их статуса, заходила в России довольно далеко, захватывая и «малый двор».
Подобное сближение привлекало и католическую сторону, и папство: приключения капуцина Ф. Сотера - выдавленного из России миссионера, искавшего возможности вернуться с помощью сильных мира сего при российском дворе, это вполне доказывают.
Вопрос, разумеется, должно изучить более глубоко, но уже сейчас можно констатировать, что дальнейшее поведение сторон предполагало известную степень взаимного доверия. Во всяком случае, папство вынашивало после воцарения Екатерины II определенные надежды в России, особенно на южных и юго-восточных окраинах империи, близких к ним и смежных территориях (Балканы, Закавказье, Персия).
Императрица со своей стороны, придя к власти и затронув «диссидентский вопрос» в Речи Посполитой после избрания польско-литовским королем С. Понятовского, вела себя в 1760-е гг. в отношении тамошних прерогатив католического Рима предельно корректно. Известный консенсус между дипломатией русской и дипломатией папской в польских и восточных делах разладился лишь в 1769 г, с выходом екатерининского Католического регламента.
* * *
Что же в итоге?
Участие Екатерины II в бытность супругой наследника престола и великой княгиней во внутренней борьбе католического сообщества Санкт-Петербурга и, соответственно, ее взаимоотношения с католическими кругами северной столицы является бесспорным. Источники подтверждают, что на протяжении 1755-1759 гг. упомянутые контакты носили прочный, устойчивый характер и обусловили поиск католическими кругами, жизненно втянутыми в миссионерскую работу на юге России, поддержки со стороны Екатерины.
С учетом сказанного надлежит принять во внимание принципиально важные и до того недооценивавшиеся качества будущей российской правительницы.
Прежде всего, она была гораздо более самостоятельна как политик, нежели это представлялось в предшествующей литературе.
Нельзя забывать и о том, что «молодая Екатерина» в мечтах об императорской короне и в борьбе за нее вела себя жестко, по-своему даже цинично.
С середины 1750-х гг. она готовилась к решающей схватке за власть и искала нужные резервы. Именно насущными поисками и диктовалось в конкретный момент внимание к католичеству.
Однако дальнейшие события (кончина Елизаветы Петровны, знакомство с Орловыми) задали другую траекторию движения Екатерины к трону.
Список литературы Великая княгиня Екатерина Алексеевна и католики-миссионеры на юге России: будущая императрица в поисках путей к власти (вторая половина 1750-х годов)
- Inglot, M. (S.J.) La Compagnia di Gesu nell'Impero Russo (1772 - 1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia. Roma, 1997
- Лушпай В.Б. Иезуиты в политике Екатерины II // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 130-137
- Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск, 2007
- Pavone S. Una strana alleanza: la Compagnia di Gesù in Russia dal 1772 al 1820. Napoli: Bibliopolis, 2008. P. 123-167
- Werth P.W. Soslovie and the "Foreign" Clergies of Imperial Russia: Estate rights or service rights? // Cahiers du monde russe. 2010. Vol. 51. № 2-3. P. 419-440
- Андреев А.Н. Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2014. Т. 14. № 1. С. 6-14
- Самыловская Е.А. Финансовое положение петербургского римско-католического духовенства в первой половине XVIII в. // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 7 (90). C. 46-49
- Самыловская Е.А. К вопросу о численности и национальном составе римско-католической общины Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. 2016. Т. 26. № 1. С. 76-81.
- Windler C. Missionare in Persien: Kulturelle diversität und Normenkonkurrenz im globalen Katholizismus (17.-18. Jahrhundert). Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2018. P. 283-387.
- Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии // Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль, 1898. Кн. 75. С. 89.