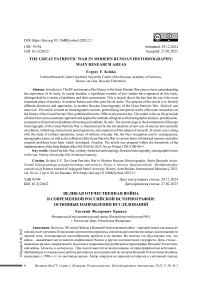Великая Отечественная война в современной российской историографии: основные направления исследований
Автор: Кринко Е.Ф.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – хороший повод для осмысления опыта ее изучения. В последние десятилетия появилось значительное количество новых исследований по данной теме, отличающихся многообразием проблем и их оценок. Во многом это обусловлено тем, что война – важнейшее место памяти современной России и других постсоветских государств. Цель статьи – выявление разных направлений и подходов в современной российской историографии Великой Отечественной войны. Методы и материалы. При подготовке статьи использованы историографические источники – обобщающие и специальные работы российских исследователей по истории Великой Отечественной войны, вышедшие с 1990-х гг. по настоящее время. Автор опирался на принцип историзма и системный подход, использовал методы логического и историографического анализа, периодизации, сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы. Результаты. Современный этап в развитии российской историографии Великой Отечественной войны характеризуется введением в научный оборот новых комплексов источников, переосмыслением ранее поставленных вопросов, расширением предмета исследований. В последние годы, наряду с изучением боевых действий, широко разрабатываются вопросы военной повседневности, нацистской оккупации и ее последствий, демографических потерь, а также представление Великой Отечественной войны в различных формах исторической памяти и другие исследовательские проблемы. Финансирование. Статья подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН за 2025 г., № гр. проекта 125011200146-5.
Великая Отечественная война, военно-историческая антропология, российская историография, демографические потери в войне, история повседневности, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/149147744
IDR: 149147744 | УДК: 93/94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.1
Текст научной статьи Великая Отечественная война в современной российской историографии: основные направления исследований
Цитирование. Кринко Е. Ф. Великая Отечественная война в современной российской историографии: основные направления исследований // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 6–20. – DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.1
Введение. Изучение истории Великой Отечественной войны всегда являлось широко разрабатываемым научным направлением, в рамках которого были подготовлены тысячи исследований и публикаций различного содержания. Необходимость анализа накопленного исследовательского опыта определяется не только его нарастающими масштабом, тематическим и содержательным многообразием, но и тем значительным местом, которое занимает тема войны в исторической памяти современной России и других постсоветских государств.
Не раз становилась предметом специального анализа и историография Великой Отечественной войны, одним из методов изучения которой выступает периодизация. Многие советские и российские исследователи, находя новизну в трудах своих современников, отделяли их от предшествующего периода в развитии науки, который, в свою очередь, мог рассматриваться как один этап или расчленяться на несколько. Количество и хронологические рамки этапов определялись в зависимости от критериев периодизации.
В последнее время все чаще в историографии Великой Отечественной войны выделяются два основных этапа: советский и современный. Предлагаемое разделение не означает ни полного единства исследований внутри этапов, ни жестких границ между ними, тем более что многие историки, сформировавшиеся в советское время, продолжили свои исследования в условиях современной России. В то же время между историографическими фактами внутри каждого из этапов больше сходств, чем различий, и напротив – больше различий между историографическими фактами, относящимися к разным этапам.
Предметом данной статьи выступает современный этап в развитии историографии Великой Отечественной войны, нашедший отражение в ряде предшествующих публикаций, обзорах и рефератах [10; 30; 65], но вызывающий интерес вследствие появления новых исследований. Критериями для его выделения выступают не только изменения в оценках и подходах к рассматриваемой теме, но и трансформация условий деятельности историков, в первую очередь отмена цензурных ограничений, введение в научный оборот значительного комплекса новых источников, расширение связей с зарубежной наукой, отказ от методологического монизма. Внутри данного этапа прослеживается определенная динамика, обусловленная разными факторами, включая и изменения в социально-политическом контексте военно-исторических исследований. Нарастание противоречий Российской Федерации с Западом, нашедшее отражение и в различных трактовках роли СССР во Второй мировой войне, ограничение международного сотрудничества вследствие санкций и другие обстоятельства вносят свои коррективы в развитие историографии. И все же говорить о завершении очередного и начале следующего этапа в изучении Великой Отечественной войны преждевременно, поэтому хронологические рамки статьи включают весь период с начала 1990-х гг. до настоящего времени.
Методы и материалы. Автор опирался на принцип историзма и системный подход, изучая происходящие в российской историографии процессы в динамике, в общем контексте развития исторической науки, а также в комплексе и взаимосвязи с другими историографическими явлениями и событиями. В работе с источниками применялись методы периодизации, логического и историографического анализа, сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы.
При подготовке статьи использован широкий круг историографических источников – обобщающие и специальные работы российских исследователей по истории Великой Отечественной войны, вышедшие с 1990-х гг. по настоящее время. С учетом огромного массива публикаций, количество которых составляет тысячи наименований, а также наличия предыдущих обзоров, анализу подвергаются обобщающие коллективные труды и монографии, изданные преимущественно в XXI в. и отражающие новые тенденции в развитии историографии. Из всего разнообразия рассматриваемых проблем главное внимание уделено наиболее общим вопросам методологии современных исследований в сочетании с их научно-организационными формами и географическим распределением, а также изучению нескольких важнейших тематических блоков, среди которых: основные боевые операции; нацистская оккупация, сопротивление и коллаборационизм; внешняя и внутренняя политика СССР; демографические процессы; память о войне. За пределами внимания остается не менее широкий круг вопросов, включая военную стратегию, историю Красной армии, отдельных вооруженных формирований и полководцев, развитие экономики, культуры, науки и образования, социальных слоев и этнических групп советского общества и их взаимодействия в военные годы и многие другие сюжеты, частично нашедшие отражение в ранее вышедших историографических работах [10; 30; 57], а также подавляющее большинство региональных исследований. Не рассматриваются и многочисленные публицистические и научно-популярные работы, вызванные как поисками ответов на не решенные в профессиональной историографии задачи, так и политическими и гражданскими мотивами авторов.
Научно-организационные формы и география исследований. В первые десятилетия после распада СССР в РФ ведущую роль продолжали играть сложившиеся в советское время исследовательские структуры, в которых сформировались соответствующие научные школы и коллективы, возглавляемые известными учеными. В первую очередь необходимо отметить структурные подразделения Института российской истории (далее – ИРИ) Российской академии наук (далее – РАН) – Центр военной истории России (рук. – акад. Г.А. Куманев до 2018 г.), Института всеобщей истории РАН – Центр истории войн XX в., затем Центр истории войн и геополитики (рук. – О.А. Ржешевский, М.Ю. Мягков), а также Институт военной истории Министерства обороны РФ (с 2011 г. – Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ). Отсутствие внимания со стороны государственных научных учреждений к ряду вопросов, а также снижение их роли в целом в условиях общего сокращения финансирования исследовательской деятельности в РФ в эти годы отчасти компенсировались созданием общественных организаций научно-исследовательского и научно-просветительского профиля. Так, научно-просветительный центр «Холокост» (создан в 1992 г., рук. – И.А. Альтман, А.Е. Гербер) специализируется на изучении и увековечивании трагедии евреев в годы войны [2]. Судьбам женщин в военные годы уделяется немало внимания в публикациях членов Российской ассоциации женской истории (создана в 2002 г., рук. – Н.Л. Пушкарёва) и других авторов. Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (создан в 2008 г., рук. – А.Р. Дюков) активно борется с фальсификациями истории войны на постсоветском пространстве.
Изменение социально-экономической и политической ситуации в стране, возрастание роли Великой Отечественной войны в исторической политике РФ способствовали появлению в 2010–2020-х гг. новых исследовательских структур, призванных создать научно обоснованную картину ее событий. В Волгоградской области открыт Центр по изучению Сталинградской битвы (создан в 2015 г., рук. –
М.М. Загорулько, затем Б.Г. Усик). В ИРИ РАН – Центр истории Великой Отечественной войны (создан в 2021 г., рук. – С.В. Кудряшов). Практически одновременно возникли два научных центра, специализирующихся на изучении блокады Ленинграда. Это научный отдел Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» (рук. – Н.А. Ломагин) и лаборатория «История блокады Ленинграда» Санкт-Петербургского института истории РАН (рук. – К.А. Болдовский). Свой вклад в разработку темы войны вносят и другие научно-исследовательские учреждения, вузы, музеи и отдельные исследователи.
Изучение истории Великой Отечественной войны осуществляется в рамках государственных заданий НИИ и вузов, а также инициативных проектов, в том числе реализованных при поддержке РГНФ (1994–2016 гг.), РФФИ (1992–2022 гг.), РНФ (с 2014 г.) и других фондов. Координацию усилий исследователей призван осуществлять научный совет РАН по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (создан в 2021 г., рук. – акад. В.А. Тишков, Ю.А. Петров). Активную роль в поддержке и публикации исследований, проведении конференций, создании онлайн-проек-тов, выставок и других форм популяризации событий войны играют созданные в 2012 г. Российское историческое (далее – РИО) и Российское военно-историческое общества.
Традиционно темой Великой Отечественной войны в РФ занимаются историки из Москвы и Санкт-Петербурга, для которых характерен широкий круг изучаемых вопросов, разрабатываемых на общесоюзных и общероссийских материалах, а также из Великого Новгорода, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Махачкалы, Петрозаводска, Пскова, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Ставрополя и других городов в западных регионах страны, в годы войны оказавшихся в зоне боевых действий, подвергавшихся нацистской оккупации или находившихся вблизи линии фронта, что отражается в тематике исследований. Историки из Екатеринбурга, Казани, Магнитогорска, Новосибирска, Челябинска, Уфы и других городов, как правило, специализируются на изу- чении проблем развития советского тыла, эвакуации, роли населения и экономики (в первую очередь промышленности) данных регионов в достижении Победы в Великой Отечественной войне. У исследователей в Грозном, Карачаевске, Магасе, Нальчике, Элисте, Абакане, Сыктывкаре и других центрах регионов проживания народов, принудительно выселенных в годы войны, или мест их пребывания в ссылке повышенный интерес вызывают проблемы этнических депортаций и роли спецпоселенцев в военной экономике. Архангельск стал одним из центров изучения ленд-лиза, а Хабаровск – Советско-японской войны 1945 года. Разумеется, речь идет не о полном совпадении в распределении мест памяти и предпочтений исследователей, формирующихся под влиянием разных факторов, а об определенных корреляциях между ними.
Объединить разных исследователей и различные проблемы призваны крупные исследовательские, издательские и просветительские проекты, включая подготовку обобщающих трудов с созданием соответствующих научных коллективов. Первый из таких трудов в современной историографии вышел в конце 1990-х гг. в четырех книгах. В трех из них рассматривались традиционно выделяемые этапы в истории Великой Отечественной войны, а в четвертой раскрывались основные тенденции в развитии советского общества в военные годы, в частности проблемы военной стратегии, экономической и социальной политики, оккупации, партизанского движения, коллаборационизма, трагедии военнопленных, сотрудничества со странами антигитлеровской коалиции, цены Победы [11]. За прошедшие три с лишним десятилетия предпринимались и другие попытки создания обобщающих трудов, в том числе совместно с историками других постсоветских государств [56].
Главным коллективным достижением современной российской историографии Великой Отечественной войны нередко считается 12-томное издание, вышедшее по специальному распоряжению Президента РФ В.В. Путина под грифом Министерства обороны РФ и имеющее не совсем привычную структуру по сравнению с предыдущими трудами. Первый том содержит общую характеристику основных событий войны, в четырех следующих рассматриваются важнейшие боевые операции. Отдельные тома посвящены: советской разведке и контрразведке; экономике и оборонной промышленности СССР; внешней политике и дипломатии; действиям союзников по антигитлеровской коалиции; взаимоотношениям власти и общества, включая перестройку государственного управления и деятельности общественных организаций, вклад населения в Победу, повседневную жизнь в условиях военного времени, национальную политику, развитие науки, образования и культуры, формирование образов врага и союзника; стратегическому руководству страной и Вооруженными силами СССР; итогам и урокам Великой Отечественной войны [9].
Важным консолидирующим проектом для ряда государств постсоветского пространства и всех регионов РФ стала подготовка книг памяти погибших в Великой Отечественной войне. Установлению их судеб во многом способствовало создание Министерством обороны РФ обобщенного электронного банка данных «Мемориал» (в 2007 г.). Самым крупным издательским проектом последних лет стал проект «Без срока давности» (реализация началсь в 2019 г.), нацеленный на сохранение памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Возросший интерес к указанным вопросам привел к созданию в 2023 г. Национального центра исторической памяти при Президенте РФ (рук. – Е.П. Малышева), уделяющего значительное внимание данной теме.
Методология и основные подходы. Для современной историографической ситуации в изучении Великой Отечественной войны характерен методологический плюрализм. Однако после отказа от единой марксистской парадигмы многие историки, занимающиеся военной темой, ограничивают методологические поиски упоминанием ставших классическими принципов историзма и объективности. Широкое распространение неопозитивизма, выражающегося в стремлении воссоздать события Великой Отечественной войны, «как это в действительности было», опираясь на объективное изучение рассекреченных архивных документов, отчасти обусловлено массовым обращением к ним поисковиков, реконструкторов, краеведов, генеалогов и других энту- зиастов военной истории, часто хорошо разбирающихся в конкретных вопросах, в первую очередь в судьбах отдельных воинских соединений, частей и участников войны, но не видящих ценности в каких-либо теоретических концепциях.
В 1990-х гг. в российской историографии Великой Отечественной войны нередко использовалась теория тоталитаризма , широко распространенная в зарубежной литературе в эпоху холодной войны, предлагавшая сравнение нацистского и советского режимов с осуждением действий руководства СССР в вопросах внешней и внутренней политики. Обоснованный отказ от нее в последние годы во многом вызван осознанием ее политической и идеологической ангажированности, чреватой упрощениями и искажениями.
Среди новых направлений в изучении войны в 1990–2000-х гг. ведущее место заняли историческая антропология и история повседневности . В частности, историки поставили вопросы о том, что представлял собой менталитет советских народов в годы Великой Отечественной войны, хотя первый опыт ответа на них вряд ли можно считать удачным, он свидетельствовал о не всегда корректном использовании существующей терминологии [22].
Е.С. Сенявская охарактеризовала формирование в годы Великой Отечественной войны особого типа личности – комбатанта, или человека воюющего, с присущими ему стереотипами сознания и поведения, на которые влияли как социально-демографические и психологические факторы, так и внешние условия – конкретная боевая обстановка, специфика контактов с противником, взаимодействие с техникой, особенности военного быта и т. д. [50]. Исследования в данном направлении позволили выделить военно-историческую антропологию как междисциплинарную отрасль исторической науки на стыке психологии, социологии, культурологии, военной науки и других дисциплин [51].
Предметом специального изучения стала советская военная повседневность, система ценностей советского человека и их трансформация в экстремальных условиях, частная жизнь, бытовая религиозность, брачно-семейные отношения в условиях Великой Отече- ственной войны и другие сюжеты. Во многих исследованиях раскрываются конкретные практики выживания советских людей, условия быта и труда, различные способы удовлетворения материальных и духовных потребностей на фронте и в тылу, в эвакуации, на оккупированной территории и в блокадном Ленинграде. Внимание уделяется положению женщин и детей в 1941–1945 гг., их специфическим стратегиям выживания и переживания войны [32; 34; 35; 49; 52; 54; 64]. Характерная для исследований повседневности фрагментарность обусловливает их проведение не только и не столько на макро- (на материалах страны), сколько на мезо- (на материалах конкретных регионов и социальных групп) и микроисторическом (на судьбах отдельных участников войны и локальных общностей) уровнях.
Однако имманентно присущая истории повседневности «всеядность», порождающая дефрагментацию советского общества военных лет как главного объекта изучения, а также опасения ухода в описательность и увлечения детализацией порой вызывают критические возражения. Появление работ, выполненных в русле экономической , социальной и институциональной истории Великой Отечественной войны [60] призвано предложить ее новое концептуальное измерение. Пока они остаются перспективными, но еще недостаточно реализованными направлениями исторических исследований.
Боевые операции. С военных лет сложилось своеобразное «разделение труда» между военными и гражданскими (преимущественно региональными) исследователями, во многом обусловленное различиями не только в предмете изучения, но и в используемых исторических источниках. Первые выявляли тактические особенности боевых операций в 1941–1945 гг., опираясь на документы советских воинских частей, соединений и войсковых объединений, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны РФ (далее – ЦАМО РФ). Вторые, используя преимущественно материалы региональных архивохранилищ, описывали роль партийных организаций в мобилизации усилий всех социальных слоев на борьбу с врагом, а к боевым действиям обращались, как правило, лишь при характеристике захвата противником и осво- бождения частями Красной армии советских территорий в рамках существующих государственных и административных границ, которые, конечно, не учитывались войсками в ходе операций. Многие документы оставались недоступны исследователям, включая материалы о планах и составе войск противника и другие источники из зарубежных архивов.
Этот разрыв в последние десятилетия в значительной степени преодолен благодаря рассекречиванию, публикации и вводу в научный оборот огромного массива новых источников, в первую очередь из фондов ЦАМО РФ и других архивохранилищ. Документы Ставки Верховного главнокомандования (далее – ВГК), наркомата обороны СССР, Генерального штаба Красной армии, войсковых объединений, соединений и частей, а также постановления Государственного комитета обороны (далее – ГКО) СССР и другие материалы позволили переоценить многие сражения Великой Отечественной войны. Создание портала «Память народа» с размещением в свободном доступе цифровых образов документов существенно расширяет сам круг исследователей. Историкам стали доступны и документы вермахта, хранящиеся в Федеральном архиве Германии (Bundesarchiv Freiburg) и в Национальном управлении архивов и документации США (National Archives and Records Administration, NARA), многие из которых оцифрованы и представлены в свободном доступе. Помимо этого, ЦАМО РФ в сотрудничестве с РИО и Германским историческим институтом в Москве осуществлял оцифровку материалов фонда 500, содержащего около 28 тыс. дел документов вермахта.
Наиболее значительное количество исследований посвящено сражениям, в которых были одержаны важнейшие победы Красной армии, в первую очередь, Сталинградской битве [31]. По инициативе М.М. Загорулько и под его руководством подготовлен уникальный фундаментальный справочный труд – энциклопедия «Сталинградская битва: июль 1942 – февраль 1943» [55]. В современных публикациях дискутируется вопрос о дате начала сражения, отмечается, что город оказался недостаточно готов к обороне, раскрыта роль органов и войск НКВД накануне и во время битвы. Новые исследования позволили уточ- нить соотношение сил и потерь, понесенных РККА, вермахтом и его союзниками, оценить действия советского руководства на уровне как Ставки ВГК, так и командования фронтов и армий, взаимосвязь Сталинградской битвы с другими сражениями, ее военное и геополитическое значение [25; 58]. Впервые предметом глубокого анализа стали судьбы гражданского населения, в том числе и детей в Сталинградской битве [16; 43].
В последние годы изданы специальные работы о планировании и подготовке противоборствующими сторонами боевых операций летом 1943 г. на Курской дуге [19]. В новых исследованиях на основе советских и немецких источников показаны ход и итоги сражения, при этом даны новые оценки боям под Прохоровкой, прежде являвшимся объектом мифологизации, охарактеризован уровень профессиональной подготовки и деятельности советского командного состава в ходе Курской битвы, подведены ее итоги, потери РККА и вермахта в живой силе и бронетехнике [20; 37].
Битва за Кавказ также нашла отражение в новых обобщающих и специальных исследованиях, предлагающих подробный анализ стратегического противоборства советского и нацистского военно-политического руководства. Они позволяют переосмыслить значение оборонительных и наступательных сражений советских войск под Новороссийском, Малгобеком, Туапсе, Орджоникидзе (в настоящее время – Владикавказ), боев на перевалах, выявить ошибки, допущенные советским командованием при планировании боевых операций, особенности взаимодействия армии и флота [5; 61; 63].
Значительно больше внимания уделяется событиям начального этапа Великой Отечественной войны [1; 24; 36]. Исследователи раскрыли причины первых неудач Красной армии, связанные не только с репрессиями командного состава накануне войны и просчетами в ее планировании, но и с действиями отдельных командиров разного звена, уровнем подготовки личного состава, охарактеризовали не всегда оправданные потери в ходе отдельных сражений, тяжелые судьбы советских военнослужащих, оказавшихся в окружении, и другие вопросы.
Привлечение широкого круга источников позволило дать новые оценки битвам за Москву и Берлин, боевым операциям в Крыму и другим сражениям Великой Отечественной войны [17; 23; 26; 40]. Вышли первые крупные труды, посвященные кровопролитным боям за Ржев [14] и прорыву Миус-фрон-та [38]. Все это позволяет создать более полную картину боевых операций Великой Отечественной войны.
Нацистская оккупация, коллаборационизм и сопротивление. Введение в научный оборот рассекреченных документов и других источников позволило раскрыть систему управления захваченными советскими территориями, разные направления оккупационной политики: экономическую, социальную, национальную, а также меры в сфере образования и здравоохранения, религии и культуры [28]. Выявлена специфика оккупационного режима в Крыму, Карелии, на Дону, Северном Кавказе и в других захваченных областях. Вне зависимости от этой специфики большинство историков подчеркивают репрессивный характер действий оккупантов, широко использовавших, наряду с масштабной и дифференцированной пропагандой, различные способы устрашения и истребления людей в качестве методов управления. Российские исследователи обратились к судьбам советских военнопленных и «восточных рабочих», охарактеризовав их численность и условия жизни, а также проблемы репатриации перемещенных лиц [47]. Реализация проекта «Без срока давности» позволила уточнить людские потери и материальный ущерб от нацистской оккупации в целом и в региональном разрезе.
Новым направлением исследований в отечественной современной историографии стало изучение перехода части советских граждан на сторону противника. Исследователями выявлены мотивы и причины коллаборационизма, охарактеризованы его различные формы и типы. Наиболее полно в современной историографии раскрыты вопросы военно-политического коллаборационизма, однако в последние годы вышли работы, посвященные и невоенным формам сотрудничества с противником, носившим массовый характер [18; 27].
В трудах по истории сопротивления противнику на оккупированной территории рас- крываются различные формы борьбы в тылу врага и ее особенности в разных регионах страны, трудности и просчеты в становлении и организации партизанских отрядов и подпольных организаций, деятельность органов государственной безопасности СССР на оккупированных территориях [45; 48].
Внешняя и внутренняя политика СССР. Остро дебатировалась предвоенная внешняя политика СССР, но и советская дипломатия в 1941–1945 гг. получила переосмысление в современной историографии. Российские историки раскрыли сложности взаимоотношений союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе на уровне руководителей стран, споры по вопросам открытия второго фронта и послевоенного устройства мира. Переоценке подвергается ленд-лиз и его роль в обеспечении условий для достижения Победы [6; 7].
В отношении личности и деятельности И.В. Сталина как руководителя СССР в годы войны в историографии 1990–2000-х гг. существовал широкий разброс оценок – от его апологии до огульной критики. Исследователи проанализировали изменения в системе органов государственной власти и управления, появление и роль чрезвычайных органов власти [15; 59], перипетии взаимоотношений Советского государства с Русской православной церковью [62]. Значительный интерес вызывают вопросы советской национальной политики в годы войны и ее реализации в Вооруженных силах СССР, их изучение дает возможность представить вклад всех народов страны в Победу [4; 41; 53]. Ввод в научный оборот новых источников позволяет отказаться от упрощений в трактовке принудительных выселений части советских народов в годы войны, получивших негативную оценку большинства исследователей, дать разные объяснения причин данных событий, раскрыть их последствия [33, с. 198–219].
Демографические процессы. Наиболее бурные дискуссии посвящены потерям СССР в годы Великой Отечественной войны. Общий анализ потерь Вооруженных сил СССР в 1941–1945 гг. представлен в статистическом исследовании военных историков под руководством Г.Ф. Кривошеева, впервые изданном в 1993 году. Они оценили безвозвратные потери Вооруженных сил СССР в 8 668,4 тыс. чел. [8, с. 50]. Общие людские потери СССР методом демографического баланса определены в 26,6 млн чел. [8, с. 45]. Немаловажную роль в этих расчетах сыграли работы демографов, выявивших завышение данных переписи 1939 г., что позволило восстановить действительное количество жителей страны накануне войны [42]. Немало исследователей стремилось уточнить, а то и опровергнуть приводимые цифры [33, с. 232–249]. Так, Б.В. Соколов считал, что Вооруженные силы СССР потеряли в 1941–1945 гг. 26,4 млн чел., а общие потери СССР составили 43,3 млн чел. (см.: [33, с. 240]). Однако его подсчеты основаны на недостоверных и завышенных данных, поскольку не учитывают результаты пересчета переписи населения 1939 года. Напротив, В.Н. Земсков считал указанные цифры преувеличением, выступая против включения в прямые жертвы войны всех умерших граждан в советском тылу (за исключением погибших от бомбежек, артобстрелов и т. д.). Он оценил людские потери СССР в 1941– 1945 гг. в 16 млн чел., из которых, по его мнению, 11,5 млн чел. составляли военнослужащие, а 4,5 млн чел. – мирные граждане [21].
Вышли и другие исследования демографических процессов военных лет, посвященные основным миграционным потокам, брачно-семейным отношениям, динамике рождаемости и смертности, хотя данным проблемам уделяется меньше внимания, чем потерям. Свой вклад в их изучение вносят исследования, выполненные на материалах отдельных регионов страны.
Историческая память. Все более широкий интерес вызывают вопросы отражения Великой Отечественной войны в различных формах исторической памяти. Это обусловлено и быстрым развитием memory studies как одного из ведущих междисциплинарных исследовательских направлений в целом, и значением войны как места памяти современной России.
В изучении данных вопросов, в свою очередь, можно выделить несколько основных групп исследований. Одна из них представлена работами по устной истории Великой Отечественной войны. Среди респондентов первоначально преобладали фронтовики, интер- вью с которыми начали записывать еще в военные годы (наиболее широкую известность получила работа Комиссии по истории Великой Отечественной войны при Президиуме АН СССР [13]). В настоящее время самый большой интернет-архив воспоминаний участников войны (свыше 2,5 тыс.) представлен в свободном доступе на портале фонда сохранения исторической памяти «Я помню», основанном в 2000 г. А.В. Драбкиным, где материалы структурированы по родам войск и основным сражениям и содержат воспоминания не только фронтовиков, но и партизан, гражданских лиц и представителей других стран.
В поле устной истории оказались включены и другие респонденты, в первую очередь многочисленные жертвы: блокадники Ленинграда, бывшие «восточные рабочие», жители оккупированных областей, а также дети войны и другие группы, прежде не являвшиеся предметом специального изучения, что придало опросам особую ценность. Новым направлением устноисторических исследований в связи с прекращением эпохи прямых очевидцев войны может стать изучение вопросов отражения ее событий в семейной памяти (постпамяти). Наряду с этим растет интерес и к практикам создания меморатов.
В другой группе работ содержится анализ представления событий и участников Великой Отечественной войны в политике памяти и культуре памяти СССР и РФ, а также других постсоветских государств. Значительное внимание уделяется различным формам и институтам сохранения памяти о войне, мемориальной культуре и коммеморативным практикам, в том числе юбилейным кампаниям, празднованию Дня Победы, городам-героям и другим символическим объектам [3; 29; 44; 46]. Исследуется создание образов участников войны в изобразительном искусстве, художественной литературе, кинематографе, а также в учебной литературе. Новый виток «войн памяти» отражает борьба с фальсификациями истории Великой Отечественной войны [12; 39].
Результаты. Проведенный анализ позволяет утверждать, что изучение Великой Отечественной войны не только остается в центре внимания российских исследователей, но и получило новые импульсы, в том числе вызванные поиском ответом на современные политические вопросы, по-разному осмысливаемые разными авторами. Немаловажными обстоятельствами стали усиление роли государства в противодействии фальсификации истории, принятие нормативных актов о запрете реабилитации нацизма и других мер, регламентирующих обращение к военной теме. Свою роль играет и логика собственного развития историографии, современный этап которой характеризуется введением в научный оборот новых комплексов источников, переосмыслением ранее поставленных вопросов, расширением предмета и направлений исследований. Несмотря на это, у российских исследователей с их предшественниками – советскими историками – много общего в оценках, в том числе их объединяет и само понятие Великой Отечественной войны, от которого отказались во многих постсоветских государствах. В значительной степени сохраняются предложенная советскими историками периодизация Великой Отечественной войны, оценки ее причин, важнейших событий и главных итогов. Однако современная историография предлагает значительно более разнообразную картину событий, в которой присутствует не только пафос победы, но и трагизм поражений. При этом присущая 1990-м – началу 2000-х гг. жесткая критика советского командования постепенно сменяется более сложным поиском причин неудач и потерь РККА, особенно в начальный период войны. Наряду с описаниями массового героизма и самопожертвования миллионов людей на фронте и в тылу, выявлением причин и факторов побед Красной армии, характеристикой достижений советской военной экономики, форм сопротивления противнику на оккупированных территориях, российскими историками изучаются «пропущенные» сражения, вопросы коллаборационизма части советских граждан и другие негативные явления военного времени, демографические потери. Обращение к военной повседневности позволяет раскрыть тяжести войны для подавляющего большинства населения. Новой темой стало изучение памяти о войне и ее роли в жизни современного общества.
* * *
На страницах журнала «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения» не раз публиковались различные материалы, посвященные истории Великой Отечественной войны. Надеемся, что данный номер, подготовленный редколлегией в сотрудничестве с учеными из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана к 80-летию Победы, за которую сражались совместно все народы нашей страны, не только станет очередным вкладом в формирование научных представлений о самом крупном мировом конфликте ХХ в., но и отдаст дань памяти героям, павшим в боях за Отечество.