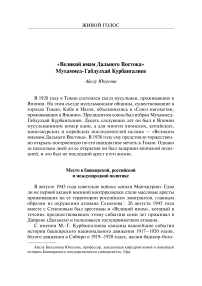«Великий имам Дальнего Востока» Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев
Автор: Юнусова Айслу Билаловна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Живой голос
Статья в выпуске: 4, 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911781
IDR: 14911781
Текст статьи «Великий имам Дальнего Востока» Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев
В 1928 году в Токио состоялся съезд мусульман, проживавших в Японии. На этом съезде мусульманские общины, существовавшие в городах Токио, Кобе и Нагоя, объединились в «Союз магометан, проживающих в Японии». Президентом союза был избран Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев. Десять следующих лет он был в Японии мусульманином номер один, а для многих японских, китайских, маньчжурских и корейских последователей ислама — «Великим имамом Дальнего Востока». В 1938 году ему предстояло торжественно открыть построенную по его инициативе мечеть в Токио. Однако за несколько дней до ее открытия он был задержан японской полицией, и это был не последний арест в его жизни.
Место в башкирской, российской и международной политике
В августе 1945 года советские войска заняли Манчжурию. Едва ли не первой акцией военной контрразведки стали массовые аресты проживавших на ее территории российских эмигрантов, главным образом из окружения атамана Семенова 1. 26 августа 1945 года вместе с Семеновым был арестован и «Великий имам», который в течение предшествовавших этому событию семи лет проживал в Дайрене (Дальнем) и пользовался гостеприимством атамана.
С именем М.-Г. Курбангалиева связаны важнейшие события истории башкирского национального движения 1917–1920 годов, белого движения в Сибири в 1919–1920 годах, жизни башкир-бело- гвардейцев в эмиграции. Эти аспекты истории привлекли внимание ряда исследователей — А. М. Юлдашбаева, который ввел в научный оборот материал Г. Тагана «Башкиры в Забайкалье» 2, М. М. Куль-шарипова3, японского историка Кацунори Нисияма 4, а также автора данной статьи 5. В подготовленном моим отцом Билалом Юлдашба-евым многотомнике «Национально-государственное устройство Башкортостана. 1917–1925 гг.» рассматривается вопрос о последовательном антибольшевизме башкир, воевавших в Белой армии, и о политическом соперничестве между башкирскими националистами во главе с Курбангалиевым и сторонниками Ахмеда-Заки Валидова, в ходе которого Курбангалиев выдвигал вариант башкирской автономии как культурно-национальной, духовной, в рамках «единой и неделимой» буржуазно-демократической России.
Для Б. Х. Юлдашбаева М.-Г. Курбангалиев — толковый и уверенный в своих силах политический оппонент А.-З. Валидова. Но он и безусловный башкир-националист , организатор башкирского войскового самоуправления в армии Колчака, не оставивший своих земляков до последних дней борьбы за «белое дело» в России, ушедший в Манчжурию с башкирскими солдатами и взявший на себя их устройство на чужбине.
Есть, однако, и другая сторона жизни и деятельности этого незаурядного человека. Вводимые мною в научный оборот документы Центрального архива ФСБ (материалы уголовно-следственного дела № 1741 по обвинению Курбангали[ева] Мухамед-Габдулхая. 1945–1948 гг.) не оставляют сомнений в том, что военно-политические круги Японии видели в Курбангалиеве инструмент расширения собственного влияния в странах мусульманского Востока, а также военной экспансии в Юго-Восточной Азии и Северо-Восточном Китае. Его организаторские способности, предприимчивость, умение сходиться с различными людьми при различных обстоятельствах привлекали внимание японских разведывательных органов, которые в 1920–1930-е годы последовательно поддерживали антисоветски настроенных эмигрантов из России в борьбе против СССР. В качестве агента японской разведки был использован и Курбангалиев.
Вместе с тем знакомство с материалами уголовно-следственного дела № 1741 не исключает возможных намерений разведывательных органов СССР перевербовать М.-Г. Курбангалиева. Сам он в заявлении на имя министра государственной безопасности СССР недвусмысленно писал о своих возможностях: «Будучи сведущим лицом, специалистом, связанным с высокопоставленными деятелями му- сульман Дальнего и Ближнего Востока, а также высокими лицами Японии, я желаю прилагать усилия по установлению взаимопонимания и дружбы между мусульманами мира и СССР» 6.
История пребывания Курбангалиева в Японии раскрывает его еще с одной, во многом неожиданной, стороны. Безусловно, велика его роль в консолидации мусульман тюркского, японского, корейского происхождения: он создал всеяпонскую мусульманскую общину, открыл медресе, построил мечеть, издал Коран, стал также редактором мусульманского раздела журнала «Япон мухбири» («Японский вестник»). Однако, на страницах этого журнала и в японской печати Курбангалиев выступает не только как религиозный мусульманский деятель, но фактически и как геополитик и этнополитолог . Его рассуждения (а они основаны на изучении работ известных лингвистов) по поводу этнокультурной общности народов урало-алтайской языковой группы аргументированы и современны в контексте сегодняшнего евразийского геополитического пространства.
Итак, речь идет о Мухаммед-Габдулхае Курбангалиеве — представителе древнего ишанского рода Курбангалиевых, внуке известного на Урале ишана Абдул-Хакима 7, сыне не менее известного «Аксак ишана» Габидуллы Курбангалиева 8, сформировавшего на свои средства в 1919 году «полк Мухаммеда» для борьбы с большевиками, брате башкирского белого офицера Аруна 9, погибшего в 1920 году в боях с Красной армией под Читой. И он же — религиозный деятель, белогвардеец, башкирский националист, политический оппонент А.-З. Валидова, агент японской разведки в 20–30-е годы, геополитик, подследственный и политический заключенный.
сторонником «единой и неделимой», вместе с тем буржуазно-демократической России.
Летом 1919 года, едва войска А. В. Колчака оставили Уфу и Стерлитамак, особый отдел Реввоенсовета 5-й армии Туркестанского фронта издал распоряжение об аресте отца и брата Курбангалиева — Габидуллы и его младшего сына Габдул-Аваля. Арест Курбангалие-вых был целью и военного комиссара Башкирского правительства А.-З. Валидова, который лично распорядился о немедленном поиске семьи ишана. 30 ноября 1919 года Революционный трибунал Башкирской советской республики приговорил их обоих к высшей мере наказания. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, и 7 декабря отец и брат Курбангалиева были расстреляны во дворе стерлитамакской тюрьмы 10. Мухаммед-Габдулхай и его брат Арун, ничего не ведавшие о судьбе отца и младшего брата, отступали с армией Колчака. Им предстоял суровый зимний поход по Сибири. С ними и другими башкирскими белыми офицерами ушло несколько тысяч башкир, многие из которых так и не вернулись в родные края.
Находясь в составе Белой армии, Мухаммед-Габдулхай с помощью брата Аруна предпринимал попытки объединить разрозненные части башкир и татар в единое национальное войсковое подразделение. Однако большинство колчаковских генералов к идее создания национальных частей в составе армии относилось неодобрительно. Так, генерал Болдырев 11, которому Временное Правительство (Уфимская Директория) поручило верховное главнокомандование всей российской армией, был сторонником строгой централизации вооруженных сил без их разделения на национальные части. В своих дневниках он писал: «Вооруженные силы, находившиеся тогда к востоку от Волги, состояли из слабой по боевому составу и в массе своей демократически настроенной Народной армии, групп Оренбургского и Уральского казачьих войск, Башкирских частей и Сибирской армии и чехов. Везде были свои главнокомандующие, командующие фронтами, армиями, огромные штабы и вообще организационные излишества старой армии, без достаточных материальных и боевых средств, с далеко неодинаковой идеологией, а кое-где и с открытой взаимной враждой (волжане и сибиряки)» 12. В свою очередь, барон Будберг 13, критически оценивая обращение барона Дитерихса 14 к награжденным им офицерам, писал: «Приплетены, неизвестно для чего, и Магомет, и Будда, коим тоже воздается хвала; это nouveauté в стиле религиозного интернационала; недаром
Голицын 15 завел у себя мусульманские дружины и зеленые знамена с полумесяцем» 16.
Тем не менее в декабре 1919 года, во время отступления к Иркутску, генерал Каппель 17 согласился с предложением братьев Курбан-галиевых объединить башкир в единую дивизию для создания «более благоприятных условий национальной жизни башкир и предоставления им возможности отправлять мусульманские обряды». Рассказывая об этом, близкий друг Аруна прапорщик Г. Таган отмечал: «Сами воины-башкиры рассчитывали, что при их наличии (речь идет о М.-Г. Курбангалиеве и Галимьяне Тагане 18. — А. Ю. ) будет легче им существовать и при их содействии они сумеют создать национальные части, облегчат удовлетворение своих национальнорелигиозных обрядов и тем смягчат результат горького перехода и тоску по родине. Некоторые меры были приняты в этом направлении уполномоченным от башкир К[урбангалиевым], который обратился с просьбой о сведении башкир в одну дивизию к генералу Каппелю в декабре в г[ороде] Ачинске. Славный генерал Каппель, будучи сторонником демократии и чуждый всякому антагонизму и угнетениям, обещал помочь в этом, но обстоятельства не позволили ему» 19.
После смерти Каппеля 20 его преемником стал генерал Войцеховский 21. Активно сотрудничая с чехами и рассматривая свое положение как временное, он не торопился объединить служивших в армии мусульман 22. Свидетельствует Таган: «Наконец, 12 февраля на ст[ан-ции] Мысовой была подана докладная записка главнокомандующему Восточным фронтом генералу Войцеховскому, который, взяв этот доклад, увез с собой в Читу для доклада атаману Семенову. Башкиры по дороге только и ждали присоединения к войскам атамана Семенова <...>. Некоторые начальники отрядов по дороге организовали у себя башкирские эскадроны, которые ехали под своими национальными флагами и с национальными песнями и, чувствуя себя в национальной своей семье, были гораздо лучше настроены, чем другие <...>. 14 марта в доме атамана состоялось первое деловое свидание Курбангалеева (здесь и далее как в тексте. — А. Ю.) с атаманом Семеновым, где Курбангалеевым была изложена история башкирского народа и его движения после революции и также цели национальной группы башкир в Забайкалье. Со своей стороны атаман рассказал о своем политическом направлении и стремлении устроить Россию федеративною, но на капиталистических правовых началах, и... выразил готовность, как главнокомандующий, пойти навстречу желаниям башкир и приступить к сведению воинов-башкир каппелевский армии и так называемые семеновские части в особую боевую единицу. 17 марта атаману Семенову было подано нижеследующее:
“Его высокопревосходительству атаману Семенову.
Считая желательным продолжение борьбы против большевизма соответственно с настроением воинов-башкир Российской армии, прошу Вашего распоряжения о нижеследующем:
-
1. Формировать из стрелков башкир Российской армии и Туземной дивизии Отдельную Башкирскую кавалерийскую бригаду с непосредственным подчинением Вашему Высокопревосходительству.
-
2. Сейчас же приступить к формированию 1-го Башкирского кавалерийского полка.
-
3. Основной частью этого полка назначить башкирский эскадрон Уральского отряда.
Представитель башкир М. Г. Курбангалеев”» 23.
Семенов трезво оценивал ситуацию в войске, а также возможности национальных частей. «В обстановке гражданской войны, — писал он, — однородные по племенному составу воинские части имели более крепкую внутреннюю спайку; крупные же войсковые соединения из частей разных национальностей давали гарантию безопасности от политического развала одновременно всех вооруженных сил» 24. К представителям башкир братьям Курбангалиевым и Тагану он относился более чем лояльно, одобряя идею Курбангалиевых, рассчитывая на их содействие в переходе мусульман из почти распавшейся армии Каппеля в свою. Но созданию единых татаро-башкирских мусульманских частей помешали разногласия внутри бывшего каппелевского руководства. Тем не менее Курбангалиеву удалось завербовать в армию Семенова значительную часть каппе-левцев из числа татар и башкир. В мае-июне 1920 года он выступал в качестве «представителя башкир при главнокомандующем всеми вооруженными силами Российской Восточной Окраины», о чем гласил приказ Семенова от 23 мая 25. Через месяц «главнокомандующий всеми вооруженными силами и походный атаман всех казачьих войск Росс[ийской] Вост[очной] окраины» генерал-лейтенант Семенов издал приказ «Учредить военно-национальное управление башкир на основаниях, равных с войсковыми правительствами казачьих войск, с подчинением его штабу походного атамана». Председателем военно-национального управления башкир был избран М.-Г. Курбангалиев 26.
-
8 апреля в сражении под Читой Арун Курбангалиев был тяжело ранен и умер. Мухаммед-Габдулхай остался один. Похоронив брата, он отправился в Харбин. Эта поездка была поддержана и финансирована Семеновым, поручившим Курбангалиеву выяснить настроения среди мусульман Манчжурии (китайцев и российских эмигрантов-татар 27) с точки зрения возможности их участия в антисоветской борьбе.
В ноябре 1920 года Чита оказалась под угрозой занятия Красной армией. Отряды Семенова отступали к китайской границе, а вместе с ними и две тысячи башкир-белогвардейцев. Оказавшиеся в Манчжурии башкирские солдаты тут же были разоружены китайскими властями. Семенов рассчитывал на продвижении своих войск дальше в Приморье, но Курбангалиев настаивал на том, чтобы белогвардейцы-башкиры отказались от продолжения вооруженной борьбы с Россией и остались в Манчжурии, — к этому он призывал башкир в своем обращении от 20 ноября 1920 года, в день перехода ими российско-китайской границы.
Еще в Чите, в управлении Забайкальской области Курбангалиев получил заграничный паспорт. Тогда же он впервые встретился с представителем японского командования в Забайкалье капитаном Хираса, присутствовавшим вместе с другими японскими офицерами на похоронах Аруна «в знак сочувствия ко мне (М.-Г. Курбангалие-ву. — А. Ю. ) как к высокопоставленному лицу в магометанских религиозных кругах», — так говорил он на допросе. Представители Японской военной миссии в Чите обратили внимание на энергичного и предприимчивого башкира, активно добивавшегося объединения мусульман в составе Белой армии и ставшего в 1919–1920 годах известным в военных, политических и религиозных кругах Сибири. Идея развития контактов с мусульманами Востока, включая и создание под японским протекторатом мусульманских государств в Центральной (в том числе и в китайском Синьцзяне) и Юго-Восточной Азии, давно вынашивалась в правительственных кругах Японии. Но для ее реализации необходимо было подготовить почву — создать в среде многотысячного мусульманского населения этих регионов привлекательный образ Японии как страны — покровительницы ислама. Курбангалиев вполне годился для роли агитатора, а точнее — агента влияния.
В ноябре 1920 года, получив рекомендации японского консула в Харбине, Курбангалиев вместе с полковником Бикмеевым 28 отправился в Токио, чтобы «разрешить вопрос об устройстве на жительст- во и службу в Манчжурии около двух тысяч белогвардейцев-башкир из остатков армий Каппеля и Семенова» (так он утверждал в своих показаниях после ареста в августе 1945 года). Приветствуя приезд в Токио башкир-белогвардейцев, японская газета «Асахи Симбун» писала: «Мусульмане, жаждущие воли и освобождения, станут во главе объединительного движения народов Азии» 29 . Сразу по приезде Курбангалиев и Бикмеев отправились в Генеральный штаб вооруженных сил Японии, где они отрекомендовались как представители башкир. Затем они побывали в Министерстве иностранных дел и были приняты директором его Европейского департамента. Кроме того, Курбангалиев и Бикмеев посетили посла царской России в Японии Крупинского (в 1920 году он еще оставался и признавался таковым. — А. Ю.), а тот познакомил башкир с видным общественным деятелем Японии, председателем японско-русской ассоциации Гото 30. Гото представил башкир члену Гэнро 31 Окуме 32. Эти встречи способствовали росту авторитета Курбангалиева в кругах японских политиков и общественности.
Во время бесед с Окумой и Гото была достигнута договоренность о вторичном приезде Курбангалиева в Японию, на этот раз в сопровождении делегации мусульманских офицеров. В феврале 1921 года десять офицеров из башкир и татар (среди них полковник Бикмеев, капитан [поручик] Таган, мулла Мадьяр Шамгулов 33) прибыли в Токио. Японцы были явно благосклонны к антисоветски настроенным белым офицерам-мусульманам. Интерес к ним был обусловлен также активной разведывательной деятельностью японского командования в районе Южно-Маньчжурской железной дороги34 (от Мукдена в сторону полуострова Ляодун). В силу этого Курбангалиеву было предложено устроиться на работу в правление ЮМЖД «экспертом по магометанскому вопросу».
Свой среди чужих, чужой среди своих
В советской Башкирии 1920–1930-х годов имя Мухаммед-Габ-дулхая произносилось шепотом. Оставшиеся на родине друзья, сподвижники и родственники подвергались преследованиям. Связь с ним трактовалась как контрреволюционная деятельность. Некоторые его земляки, зарекомендовавшие себя в качестве личных врагов Курбангалиевых, делали партийную и советскую карьеру, даже несмотря на явные антисоветские настроения.
В 1932–1934 годах были арестованы почти все родственники, многие соседи, земляки и просто знакомые Курбангалиева. Эта волна арестов была напрямую связана с внешнеполитической экспансией Японии, захватом ею Манчжурии и созданием в 1932 году Маньчжоу-Го на территории, которая представляла сферу стратегических интересов СССР. Башкирские и татарские эмигранты, проживавшие на Дальнем Востоке, рассматривались в СССР как «агенты японской разведки», а связанные с ними лица — как «члены контрреволюционной белогвардейской эмигрантской организации». Показания арестованных тогда знакомых Курбангалиева, содержащиеся в следственном деле № 1741, лишь доказывали это. Вместе с тем не последнюю роль в наращивании «антикурбангалиев-ской» репрессивной кампании играли поступавшие в СССР сведения об активизации деятельности дальневосточной мусульманской общины. В 1933 году в Японию прибыл Гаяз Исхаки, стремившийся создать там дальневосточное отделение общества татар-эмигрантов «Идель-Урал». В 1934 году в Шанхае состоялся съезд его сторонников, мусульманские съезды прошли в Кобе, Токио и Харбине. Сам Курбангалиев не раз выезжал из Токио в Харбин 35, о чем было известно действовавшим в Манчжурии агентам советской контрразведки.
Весной 1936 года органы НКВД возбудили уголовное дело № 2301 по поводу контрреволюционной деятельности членов находившегося в Уфе Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ). Вместе с казыями ЦДУМ были арестованы и члены Духовного управления мусульман Башреспублики (Башкирской республики. — А. Ю. ), а с ними заодно и многие из тех, кто сотрудничал с обоими духовными управлениями. Список арестованных включал заместителя главы Духовного управления мусульман Башреспублики ахуна М. М. Камалетдинова 36, бывшего редактора мусульманского журнала «Дин ва магишат» («Религия и жизнь») Г. Х. Ханисламова 37 и других. Следствие установило, в частности, что Ханисламов не только был знаком с Курбангалиевым в дореволюционное время и годы гражданской войны, но и поддерживал связь с «японским белоэмигрантом» уже в годы советской власти и даже намеревался, якобы, с его помощью организовать переход китайской границы в районе Кашгара. В свою очередь, Камалетдинов был близок со всеми членами семьи Курбангалиевых, называл себя единомышленником Мухаммед-Габдулхая.
Имя Курбангалиева упоминается в деле № 2301 неоднократно. Однако ни следователям ОГПУ—НКВД, ни родственникам и знако- мым Курбангалиева, ни ему самому даже не могло прийти в голову, что в скором времени, казалось бы, благополучно устроившийся в Японии имам токийской мечети, председатель Всеяпонского мусульманского Союза, «Великий имам» Дальнего Востока окажется одним из обвиняемых. Его следственно-уголовное дело № 1741 было начато вместе с «делом руководителей антисоветских белогвардейских организаций, агентов японской разведки атамана Семенова, Родзаевского и других» 38.
В 1938 году японское правительство выслало Курбангалиева в Дайрен (Дальний). Обстоятельства высылки описаны японским исследователем К. Нисияма, обнаружившим в Государственном архиве внешних отношений Японии «Дело о высылке Курбангалиева за границу» 39. Документы архива прямо указывают на то, что японское правительство по-прежнему намеревалось использовать своих мусульманских контрагентов для целей внешнеполитической экспансии, но испытывало определенное неудобство от того, что мусульманская община Японии раскололась из-за распрей между сторонниками Курбангалиева и его соперника Исхаки 40. Последнему удалось в 1933–1934 годах объединить большинство татарских эмигрантов вокруг идеи создания татаро-башкирской культурной автономии «Идель-Урал», в основе которой лежали мечты о возвращении в освобожденную от большевиков Россию. Курбангалиев же пропагандировал идею более широкой — «от Урала до Фудзи» — языковой и культурной общности урало-алтайских народов «Великой Азии», создания на этой основе независимого исламского государства под эгидой Японии, которое включало бы не только волжско-уральский регион, но и среднеазиатскую периферию СССР, а также китайский Синьцзян.
В показаниях 1945–1946 годов Курбангалиев говорил, что с идеей общности урало-алтайских народов он выступал в японской печати. Нисияма сообщает о выпущенной Курбангалиевым в Японии брошюре «Урало-алтайские народы» 41. А во время следствия по делу № 1741 в качестве вещественного доказательства антисоветской деятельности Курбангалиеву был предъявлен номер журнала «Япон мухбири» с его же статьей о возрождении урало-алтайских народов в едином государстве под протекторатом Японии. В этой статье Кур-бангалиев, критикуя Исхаки и «идель-уральцев», обосновывал невозможность создания самостоятельного тюрко-мусульманского государства между Волгой и Уралом, и с запада, и с востока соседствовавшего бы с разделенной на две части Россией. Но все смогло бы выглядеть иначе, считал он, если такое государство будет расширено за счет отторгнутой от СССР Средней Азии и находящегося под властью Китая Синьцзяна. Более того, это территориально значительное мусульманское политическое образование могло бы быть создано при поддержке Японии, Маньчжоу-Го, а также правительств исламского мира 42.
Противостояние между Курбангалиевым и Исхаки выходило за рамки идейных и политических разногласий. Исхаки намеревался сменить руководство всеяпонской мусульманской общины, объединить мусульман Японии и Манчжурии под эгидой «Идель-Урала» и поставить во главе дальневосточного отделения этой общественно-политической структуры либо И. Абдурашитова 43, либо М. Шам-гулова.
Итак, во второй половине 1930-х годов интерес японской разведки и военного командования к Курбангалиеву заметно угас. Однако его высылка в Дайрен (Дальний) была обставлена так, что не остается сомнений в том, что предшествующие пятнадцать лет Курбанга-лиев (и, судя по документам, не он один) являлся сотрудником этих органов. В частности, на допросе от 17 сентября 1945 года в ответ на вопрос о том, на какие средства он жил после высылки, Курбангали-ев ответил: «При выезде из Токио я имел около 10 тысяч йен» 44; они были выданы ему в виде прощального подарка от имени японского мусульманского общества. Общество, в свою очередь, получило эти деньги от трех министерств: сухопутных войск, военно-морского флота и иностранных дел. Об этом сообщает К. Нисияма, подчеркивая, что японское правительство финансово вознаградило Курбан-галиева накануне высылки 45. Сам же Курбангалиев на одном из допросов неуклюже объяснил высылку следующим образом: «японский генеральный штаб считал, что магометанская религия противоречит основам японского государства, ибо она исповедует единого бога — Аллаха, отрицая тем самым божественность японского императора» 46.
В августе 1945 года арестованный М.-Г. Курбангалиев предстал перед следователями СМЕРШа. Атаман Семенов был тогда же приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 30 августа 1946 года. Курбангалиеву судьба подарила шанс вернуться на родину. Отсидев десять лет во Владимирской политической тюрьме, он в 1956 году приехал в Башкирию. Остаток дней он провел в Челябинске, где и умер в августе 1972 года.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1
Телеграмма муфтия Оренбургскому губернатору
Телеграмма[.] Срочно[.] Оренбург[.]
Его Превосходительству Оренбургскому губернатору[.]
Из Петрограда[.] 15 февраля 1917 г[.]
Покорнейше прошу Ваше Превосходительство разрешить трехнедельный отпуск находящемуся при мне в Петрограде имаму деревни Медиак Челябинского уезда Мухамед-Габдулхаю Курбангалиеву необходимого для моих поручений[.]
Дагмаротель[.]
Петроград[.]
Оренбургский муфтий47[.]
Из дела № 440 Особого Отдела Революционного Военного Совета 5-й армии по обвинению Габидуллы и Абдул-Аваля Курбангалиевых. Декабрь 1919 г. (далее: из дела № 440).
№ 2
Ответная телеграмма муфтию
Телеграмма[.] Петроград[.] Садовая, 9[.]
Дагмаротель[.]
Муфтию Баязитову[.]
16 февраля 1917 г. 21 ч[.] 10 м[.] Из Оренбурга[.]
Отпуск Курбангалиеву губернатором разрешен[,] извещение послано пятнадцатого[.]
Советник Бобин[.]
№ 3
Из протокола допроса Курбангали 48 Мухамеда Габдулхая от 17 сентября 1945 г.
-
< ...> В январе 1917 года по предложению главы магометан России муфтия Баязитова я выехал для его сопровождения в Петроград, где Баязитов, как глава магометан, был представлен царю Николаю II и министру внутренних дел царской России Маклакову 49. Баязитов имел намерение назначить меня муллой магометанской мечети в Петрограде, но в связи с Февральской революцией мое назначение не состоялось. И я в марте 17 года выехал домой в Челябинскую область, где принял участие в организации буржуазного национального правительства Башкирии.
-
< ...> Зажиточной частью населения магометанского вероисповедания я был избран делегатом на Всебашкирский съезд, проходивший в городе Оренбурге в июне 1917 года. Постановлением съезда был уполномочен организовать власть башкирского национального правительства на местах. Второй съезд поручил мне организовать местную власть в Аргаяшском кантоне, что мною было сделано.
В январе 1918 года я выехал в Москву.
-
< ...> Находясь в Москве, посетил мусульманский комиссариат, где встретил своего знакомого из Челябинской области Шарифа Мана-това50, являвшегося заместителем руководителя мусульманского комиссариата Вахитова 51. Манатов предложил мне вместе с другими представителями национального правительства Башкирии, также приехавшими в то время в Москву, явиться на прием к народному комиссару по делам национальностей Сталину. Сталин принял нас и беседовал с нами о национальных делах Башкирской республики. После приема народного комиссара по делам национальностей я продолжал оставаться в Москве и занимался своими личными торговыми делами до августа 1918 года. Затем выехал в Челябинск <...>.
Из дела № 1741 по обвинению Кур-бангали Мухамед-Габдулхая, 1889 года рождения, уроженца д. Медьяк Челябинского уезда Оренбургской губернии, башкира, сына муллы, имеющего высшее духовное магометанское образование, проживающего в городе Дайрене (Манчжурия) ( далее: из дела № 1741 )
№ 4
Удостоверение М.-Г. Курбангалиева
КОМИТЕТ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА И СВОБОДЫ СРЕДИ МУСУЛЬМАН, ОРГАНИЗОВАННЫЙ МУСУЛЬМАНАМИ Мухамедкулуевской, Мавлютовской, Черлинской, Метелевской и Султаевской волостей Челябинского уезда. Сентябрь 10-го дня 1918 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявитель сего гражданин Мухамед-Габдулхай Габидуллич Кур-бангалиев действительно Председатель Комитета по распространению гражданства и свободы среди мусульман, организованного мусульманами Мухамедкулуевской (Давлетбаевской), Мавлютовской, Черлинской, Метелевской и Султаевской волостей Челябинского уезда, что и удостоверяется.
За председателя Комитета [подпись] Ш. Абдулхаков
Секретарь [подпись] З. Хибатуллин
Подпись товарища председателя Комитета Абдулхакова и секретаря Хибатуллина удостоверяю, Председатель Медиаковского Сельского комитета народной власти, Мирхайдаров
[Печать: Медиаковский сельский комитет народной власти]
Из дела № 440
№ 5
Удостоверение М.-Г. Курбангалиева
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Выдано Челябинским уездным комиссаром гражданину Габдулхаю Габдулличу Курбангалиеву на предмет беспрепятственного выезда в гор[од] Омск как делегату от башкир Давлетбаевской волости Челябинского уезда к Временным Сибирскому и Всероссийскому Правительству, что подписом с приложением печати удостоверяется
Гербовым сбором оплач[иванию] не под[лежит].
30 октября 1918 г.
Челябинский Уездный комиссар [подпись]
Секретарь [подпись]
[Печать: Челябинский уездный комиссар Временного Правительства]
№ 6 Из газетной статьи «Представитель башкир у Верховного Правителя» 52
4 декабря [1918 г.] Верховному Правителю являлся представитель от башкир Челябинского уезда Мухамед Габидуллич Курбангалиев для передачи Верховному Правителю приветствия от башкир по поводу принятия им Верховной власти.
Кроме того, Мухамед Курбангалиев передал надежду башкир на помощь Верховного Правителя по ликвидации правительства Валидова, образованного в заводе Баймак. Как сам Валидов, так и члены его правительства, по словам Курбангалиева, не являются выразителями мнения всего башкирского народа.
Верховный Правитель ответил Курбангалиеву, что главнейшей его целью является ликвидация большевиков во всей России, почему башкирский народ может надеяться, что правительство предпримет все возможные меры, и просил башкирский народ уведомить его обо всех нуждах».
«Сибирская Речь», № 96 за 6 декабря 1918 г.
Из дела № 440.
№ 7
Приглашение для М.-Г. Курбангалиева на встречу с адмиралом Колчаком
Начальник Челябинской уездной милиции
9 февраля 1919 г.
№ 352
г. Челябинск, Оренб[ургская] губ[ерния]
Приписка от руки: «Получено 8 ч. вечера 10 февраля 1919 г.
Г[осподину] Курбангалиеву»
По поручению Г[осподина] управляющего Приуральской областью сообщаю Вам, что 16 сего Февраля от 8–10 часов утра прибывает в гор[од] Челябинск Верховный правитель адмирал Колчак для встречи, как представитель башкирского насел[ения] приглашаетесь и Вы.
Для свободного прохода на вокзал на Ваше имя приготовлен г[оспо-дином] начальником гарнизона пропуск.
Начальник Челябинской уездной милиции [подпись]
№ 8
Удостоверение М.-Г. Курбангалиева
Комиссар Приуралья при Временном Сибирском Правительстве
10 февраля 1919 г.
№ 861
г. Челябинск
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Настоящее удостоверение выдано Мухамед-Габдулхаю Курбангали-еву на право входа в заседание Земского Собрания имеющего быть в здании Городской Думы 11 сего февраля в присутствии ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ АДМИРАЛА КОЛЧАК[А].
ВР[ЕМЕННО] ИСП[ОЛНЯЮЩИЙ] ОБ[ЯЗАННОСТИ]
УПРАВЛЯЮЩЕГО ОКРУГОМ [подпись]
СЕКРЕТАРЬ [подпись]
[Печать: Комиссар Приуралья Сибирского Временного Правительства]
Из дела № 440
№ 9
Уведомление М.-Г. Курбангалиеву о принятии на должность в контрразведывательный пункт г. Уфы
Начальник контрразведывательного пункта
14 мая 1919 г.
№ 1153
г. Уфа
Прапорщику Курбан-Галиеву
С моей стороны на принятие Вас на должность обер-офицера для поручений при вверенном мне пункте препятствий не встречается
Подполковник [подпись] Куприянов
№ 10 Удостоверение М.-Г. Курбангалиева
Начальник контрразведывательного пункта
14 мая 1919 г.
№ 1153
г. Уфа
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявитель сего Мухамед-Габдулхай Курбангалиев командируется мною к командиру 6 Уральского Корпуса по делам службы, что подписью и приложением печати удостоверяется.
Подполковник [подпись] Куприянов
[Печать: Контрразведывательный пункт г. Уфы]
Из дела № 440
№ 11
Прогонная М.-Г. Курбангалиева и М. Казимратова
Начальник Военно-административного управления района
Западной армии. Отдел общий.
16 мая 1919 г.
№ 371
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано настоящее удостоверение уполномоченным башкир Челябинского уезда Мухамет-Габдулхаю Габидулличу Курбангалиеву и Муха-медказию Казимратову в том, что им разрешается право проезда из гор[орда] Уфа в г[ород] Омск по общественным делам и обратно, а потому прошу всех начальствующих лиц оказывать Курбангалиеву и Кази-мратову содействие при проезде по железным дорогам, что удостоверяется подписом с приложением казенной печати.
Начальник управления Генерал-майор [подпись] Вышинский
И. д. начальника Общего отделения капитан [подпись]
Делопроизводитель [подпись]
[Печать: Начальник военно-административного управления района Западной армии]
№ 12
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 17 сентября 1945 г.
-
<...> Там [в Челябинском уезде] я проживал до июня 1919 года. После чего вместе с семьей, состоявшей из отца, двух братьев, двух сестер и жены в связи с отступлением Белой армии переехал в Акмолинск, где решил переждать период военных действий. В конце сентября того же года из Акмолинска я выехал в Петропавловск с целью выяснить обстановку и узнать о возможности возвращения в Медьяк. В Петропавловске я встретился с отступавшими Белыми войсками, где служил мой брат Курбангали Арун в качестве командира башкирской роты <...>.
Из дела № 1741
№ 13
Расписка о принятии документов арестованного
Я[] нижеподписавшийся[] политический представитель Башкирского Военного комиссариата при штабе пятой армии все документы контрреволюционера Курбангалиева и его ключи, так же как и самого Курбан-галиева принял в свое распоряжение, также принял 42 фотографических карт[очки], 13 запис[ных] книжек, 6 фотограф[ических] круп[ных] карт[очек][,] 43 ключа, одна сабля и подробный список имущества Кур-бангалиева от организаторов-агитаторов Мус[ульманской] секц[ии] при Чел[ябинском] Комитете Р. К. П.(больш[евиков]) и Отдела управления при Ревкоме Гумера Сализова и Гирея Тухватуллина[,] в чем и подпису-юсь.
21 сентября 1919 г.
Политический представитель
Башкирского Военного комиссариата при Штабе 5 армии [подпись] Т. Хисматуллин
Верно: Старший следователь Особотдела 5 армии [подпись]
№ 14
Приговор Реввоентрибунала Башкирской Советской Республики по делу Курбангалиевых
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1919 года дек[абря] 7 дня Революционный Трибунал Б. С. Р. в составе председательствующего т. Иванова, Мустафина, Сакаева и Кадыр-метова при и. д. секретаря Кулакова, рассмотрев дело о гражданах Габидулваля 53 и Габидуллы Курбангалиевых[,] обвиняемых в контрреволюционном деянии, расстреле советских работников и коммунистов и прочее, находя, что кассационная жалоба Курбангалиевых, поданная на приговор Революционного Трибунала от 30 ноября сего года кассационным трибуналом оставлена без последствий, что по сему приговор трибунала от 30 ноября вступил в законную силу, что деяния подсудимых не под одним пунктом амнистии не подлежат, что таким образом приговор о Курбангалиевых подлежит немедленному исполнению[,] и что этот приговор, носящий чисто политический характер[,] по исполнении должен быть распубликован,
ПОСТАНОВИЛ: означенный приговор о подсудимых Курбангалиевых немедленно обратить к исполнению, поручив это дело в части расстрела т. Иванову, в части конфискации имущества и достояния подсудимых комиссару по внутренним делам Б. С. Р., о чем послать им каждому в отдельности копию сего постановления и самого приговора с тем, чтобы означенным[и] лицам[и] об исполнении немедленно было сообщено трибуналу для объявления населению и Особому отделу 5-й армии.
|
Председательствующий |
[подпись] |
Иванов |
|
Член[ы] |
[подписи] |
Мустафин, |
|
[подписи нет] |
Сакаев, |
|
|
И. д. секретаря |
[подпись] |
Кулакова |
ЦГИА РБ. Ф. 1252. Оп. 2. Д. 43. Б. п.
№ 15
Из протокола допроса Курбангали Мухамед-Габдулхая от 3 мая 1946 г.
-
<...> Передвигаясь в глубь Сибири с отступающей Белой армией генерала Каппеля, с сентября 1919 года до апреля 1920 года я находился в обозе башкирской роты, которой командовал мой брат. Теснимые Красной армией и партизанами, мы постоянно находились в движении на Восток.
<...> В армии Каппеля служило до двух тысяч башкир, которые были разрозненны в различных частях и подразделениях. Я и мой брат пришли к решению о необходимости свести всех каппелевцев-башкир в одну национальную бригаду. В данном случае мы имели в виду создать для башкир более благоприятные условия службы с точки зрения создания национального общежития и предоставления им возможности для исполнения религиозных магометанских обрядов. С целью изложения этого своего предложения в январе 1920 года в одном из населенных пунктов между Красноярском и Иркутском я и брат явились к Каппелю и были им приняты. В тот момент Каппель был болен — он отморозил ноги,– и поэтому со мной подробно не беседовал, заявив, что примет меня вторично, когда будет в Иркутске. Принципиально же мою идею о формировании башкирской национальной бригады Каппель одобрил.
<...> В условиях пребывания в каппелевской армии мне не удалось организовать отдельную башкирскую бригаду. Через несколько дней после свидания со мной Каппель умер, и его приемником оказался генерал Войцеховский, с которым по вопросу объединения башкирских подразделений я не разговаривал.
-
< ...> В феврале 1920 года я с отрядом брата достиг города Мысовой на восточном берегу озера Байкал. В этом пункте тогда находился штаб Войцеховского. Узнав о моей приезде, Войцеховский пригласил меня к себе и заметив, что ему известно мое высокое положение в магометанских религиозных кругах, предложил мне оставить полевой обоз и далее до Читы, куда направлялась отступающая Белая армия, проехать по железной дороге в его штабном вагоне.
-
< ...> Думаю, что в данном случае Войцеховский не только имел в виду проявить ко мне личную предусмотрительность. Приглашая меня ехать в месте с ним, Войцеховский имел в виду использовать это для усиления своего влияния на служивших у него солдат-магометан, и, кроме того, связать меня с японцами. В то время при штабе Войцеховского находились представители японского командования, и Войцеховский мне сказал, что я как восточник, общаясь в его штабе с японцами, буду полезен с точки зрения сближения с ними.
Вопрос: Вы приняли предложение Войцеховского?
Ответ: Нет. Я не счел для себя возможным оставить башкирскую роту и брата, с которым разделял все трудности перехода. Войцеховскому я так и сказал и предложил ему, в свою очередь, транспортировать далее башкир в железнодорожном эшелоне при штабе, где я буду вблизи от такового. Войцеховский не имел возможности это сделать, и я с ним не поехал, а оставался в обозе башкирской роты до приезда в город Читу.
-
< ...> В Чите я находился с апреля по ноябрь 1920 года.
-
< ...> Я проживал в Чите с братом, который продолжал командовать башкирской ротой Белой армии. На службе в последней я не находился, являлся частным лицом, бежавшим с территории, занятой Красной армией. Жители Читы — магометане и солдаты из мусульман, служившие у Каппеля и атамана Семенова, — по моему духовному званию считали меня главенствующим среди них священнослужителем.
-
< ...> Официально должность главного муллы в армии Семенова я не занимал. Главным военным муллой у Семенова был Салимгареев Абдурахман 54. Однако, я, как духовное лицо более влиятельное среди магометан, чем мулла Салимгареев, фактически в то время был главным муллой для магометан, служивших у Семенова.
-
< ...> Во время моего пребывания в Чите там располагался штаб атамана Семенова, объявившего себя главнокомандующем белыми вооруженными силами Российской Восточной окраины. Каппелевцы под командованием генерала Войцеховского вошли в подчинение Семенову. Меня и брата, а также группу офицеров башкир — наших единомышленников — не оставляла мысль относительно объединения в одну бригаду всех башкир, служивших в Семеновских войсках. Мы решили добиться своей цели, организовав башкирскую национальную бригаду, увести ее на территорию Китайского Туркестана. По личной инициативе я посетил Семенова. Представившись, я изложил Семенову свои доводы в пользу выделения в одну бригаду всех башкир, служивших в его армии, и получил на это принципиальное согласие Семенова. В последствии по этому вопросу я встречался с Семеновым еще несколько раз, однако, практической деятельности по организации башкирской бригады я не проводил. Так как этому воспрепятствовало командование кап-пелевской группировки, запретившее даже постановку этого вопроса среди башкир.
<...>Что касается показаний N о моем посещении Азиатской конной дивизии генерала Унгерна 55, то действительно я там однажды был. Я прибыл туда по приглашению генерала Унгерна, который, узнав о том, что я проездом нахожусь на станции Даурия, прислал за мной своего адъютанта<...>.
Из дела № 1741
№ 16
Из протокола допроса Курбангали Мухамед Габдулхая от 6 мая 1946 г.
-
< ...> После переговоров с Семеновым через брата, офицеров башкир, стоявших за выделение башкирской бригады, и сам я лично предпринял некоторые шаги к реализации задания Семенова. И мы повели
агитацию среди башкир каппелевской группировки за их переход к Семенову. Однако должен заметить, что успеха мы не достигли. Каппе-левское командование препятствовало нашей агитации среди башкир. Из моих эмиссаров двоих офицеров башкир Каппелевский командир полка избил и я сам был предупрежден, что моя деятельность будет кап-пелевцами рассматриваться как разложение их армии со всеми вытекающими отсюда последствиями для меня. Таким образом, фактически данное мне Семеновым задание я не выполнил.
Из дела № 1741
№ 17
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 8 мая 1946 г.
-
< ...> Когда я находился в Чите, в июне или июле 1920 года умер мой брат, смертельно раненый в бою против частей Красной армии. Похоронив брата, я решил выехать из Читы в город Харбин, который находился тогда в сфере влияния белого командования. В июле 1920 года я приехал в Харбин, пробыл там 5 дней, а затем возвратился в Читу и более ее не оставлял до окончательного отъезда в конце 1920 года. <...> Однако я подтверждаю, что действительно имел поручение от атамана Семенова на время моего пребывания в Харбине. Задание от Семенова я получил в связи с тем, что обратился к нему за разрешением на выезд в Харбин.
Речь шла не столько о его разрешении на поездку в Харбин, сколько о том чтобы Семенов распорядился предоставить мне специальный вагон-салон. К Семенову обратился не я лично, а товарищ моего брата подполковник Белой армии Таганов, который сопровождал меня при поездке в Харбин. Таганов изложил Семенову мотивы, по которым я намерен побывать в Харбине, попросил его предоставить мне вагон-салон как высокопоставленному лицу в магометанских религиозных кругах. Семенов, удовлетворив просьбу Таганова, через него передал мне о своем поручении. Как магометанский религиозный деятель, будучи в Харбине, я должен был установить связь с представителями тюрко-татарских мусульман, проживавших в Манчжурии.
Учитывая это, Семенов поручил мне изучить настроение магометан с точки зрения возможности привлечения для борьбы против Советской власти 56.
-
< ...> Во время пребывания в Харбине я встретился с рядом влиятельных лиц из числа мусульман — выходцев из России. Разумеется, что в разговорах с ними я выступал как противник Советской власти, но совершенно объективно освещал перед ними сложившуюся обстановку,
которая была не в пользу Белого движения. При этом я имел в виду не привлечение их внимания и усилия для оказания помощи Семенову, а потому, что в связи с очищением Сибири от белых войск мне необходимо было решить судьбу на дальнейшее, определить возможность в случае необходимости переехать на жительство в Манчжурию. В своих беседах с представителями мусульман, проживавших в Харбине и вообще в Манчжурии, я определил, что они вовсе не склонны примкнуть к атаману Семенову, руководствуясь в данном случае отнюдь не симпатиями к Советской власти, а своим нежеланием участвовать в военных действиях.
-
<...> После возвращения в Читу я был принят Семеновым, приглашенным на обед, и сообщил ему о настроениях среди магометан, проживавших в Манчжурии, то есть сказал ему, что они не имеют намерения участвовать в вооруженной борьбе против советской власти. Иначе говоря, я дал Семенову информацию в соответствии с действительностью.
-
<...> С июля до ноября 1920 года я безвыездно оставался в Чите. Затем бежал в Манчжурию вместе с остатками разгромленной Белой армии 57.
Из дела № 1741
№ 18 Постановление о предъявлении обвинения Курбангали Мухамед Габдулхаю
-
11 мая 1946 года.
Москва.
Я, старший следователь следотдела главного управления СМЕРШ капитан [...], рассмотрев материалы следственного дела № 1741 и приняв во внимание, что Курбангали Мухамед Габдулхай достаточно изобличается в том, что в сентябре 1919 года присоединился к Белой армии генерала Каппеля, а затем атамана Семенова, где в качестве муллы принимал у солдат-магометан присягу на верность белому командованию и в своих проповедях призывал к борьбе с Советской властью. Кроме того, вербовал татар и башкир в национальные части Белой армии Семенова. В ноябре 1920 года бежал в Манчжурию, а позднее в Японию, где организовал магометанское религиозное общество и, как тюрко-татарский националист, проводил антисоветскую деятельность. На основании изложенного, руководствуясь статьей 128, 129 УПК РСФСР, постановил: привлечь Курбангали Мухамеда Габдулхая в качестве обвиняемого по статье 58 п. 4 УК РСФСР, о чем объявить обвиняемому под расписку в настоящем постановлении.
Из дела № 1741
№ 19
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 28 мая 1946 г.
<...> Осенью 1920 года под давлением Советских войск Белая армия атамана Семенова оставила Читу и отходила непосредственно к границе Манчжурии. Опасаясь быть захваченным частями Красной армии, имея в виду бежать заграницу, еще будучи в Чите, в так называемом административном управлении Забайкальской области, я получил заграничный паспорт для переезда на жительство через Японию в Аравию. Решение об эмиграции именно в Аравию мною было принято в связи с тем, что я получил на это приглашение от находившегося при штабе атамана Семенова родственника аравийского короля принца Сауда Аль-Кадыра. В первую Мировую войну принц Аль-Кадыр служил в турецкой армии, попал к русским в плен и был представлен царю Николаю II, который освободил его из плена и разрешил, собрав в России пленных арабов, отправиться с ним на родину. Октябрьская революция застала Аль-Кадыра в Сибири, и таким образом в 1920 году он оказался при штабе Семенова. Как мусульманин Аль-Кадыр сблизился со мной и пригласил меня в Аравию, обещая мне покровительство и помощь свою и аравийского короля Хусейна II. Сам Аль-Кадыр из Сибири выехал еще в августе 1920 года, и когда я оказался перед необходимостью бегства из России, то я решил воспользоваться его приглашением. В ноябре 1920 года я выехал в Харбин, намереваясь проехать через Манчжурию в Японию, а оттуда в Аравию. Но этого не осуществил и остался проживать на Дальнем Востоке.
Вопрос: С какой целью вы посетили город Токио?
Ответ: Для поездку в Токио у меня были две причины: во-первых, я имел в виду получить материальную помощь для переезда в Аравию от проживавшего в Токио капиталиста-белоэмигранта татарина Агафуро-ва, с которым был знаком, и, во-вторых, хотел разрешить вопрос об устройстве на жительство и на службу в Манчжурии около двух тысяч белогвардейцев-башкир из остатков армий Каппеля и Семенова. Эти белогвардейцы-башкиры были выброшены Советскими войсками за границу в Манчжурию, где они были разоружены китайскими властями. От переброски в Приморье, куда японцы направили оставшихся белогвардейцев, башкиры отказались и в Манчжурии оказались без средств к существованию.
Вопрос: Кто вас уполномочил хлопотать об устройстве белогвардейцев-башкир?
Ответ: На это меня никто не уполномочивал. В данном случае я действовал по собственной инициативе, считая своей обязанностью как духовник принять участие в решение судьбы большой группы моих еди-новерцев<...>.
Из дела № 1741
№ 20
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 17 сентября 1945 г.
-
<...> Поселившись в городе Мукдене, я установил связь с китайцами-магометанами, оказавшими мне материальную помощь, и на эти средства жил до 1923 года, не имея определенных занятий.
В марте 1923 года я выехал в город Дайрен и поступил на службу в исследовательский отдел правления Южно-Маньчжурской железной дороги. В правлении Южно-Маньчжурской железной дороги я работал до октября 1924 года, затем снова выехал в Токио.
Проживая в Токио, в 1925 году я организовал магометанское религиозное общество, в которое вошли находившиеся в Токио эмигранты, по национальности башкиры и татары, магометанского вероисповедания.
В 1928 году в Токио состоялся съезд магометан, проживавших в Японии. На этом съезде общества магометан, существовавшие в городах Токио, Кобе, Нагоя, объединились в Союз магометан, проживающих в Японии, и я был президентом этого союза.
Из дела № 1741
№ 21
Из справки о санкции на арест Ханисламова Галлямутдина Хуснутдиновича
-
<...>Ханисламов Г. Х., будучи контрреволюционно националистически настроен, имеет тенденцию нелегально бежать за границу в Кашга-рию, преследуя цели:
-
1) освободиться от угнетения Советской власти;
-
2) по переходе освещать в газетах и книгах об угнетении Советского государства восточных народностей и представителей науки;
-
3) служить идеям Исламизма
В 1934 г. имел неоднократно встречи с прибывшим из Кашгарии Рахмановым Махмутом.
Проживая в Уфе Ханисламов имеет близкую связь с членами БДУМ Камалетдиновым Мутагаром, который осуществляет письменную связь с японским агентом Курбангалиевым [Г]Абдулхаем и с членами Центрального комитета Борьбы против СССР в Японии Шамгуловым и Мустафиным.
На основании вышеизложенного прошу санкции на арест — <...>
13 июля 1936 г.
Из дела № 2301
№ 22
Из протокола допроса Ханисламова Галлямутдина Хуснутдиновича от 26 августа 1936 г.
<...> Курбангалиева Габдулхая знаю как корреспондента журнала «Дин-ва-Магишат», лично не встречался. В 1932 г. был в доме у Юлда-шева58, там был Гатауллин59 и др., говорили о Курбангалиеве.
Из дела № 2301
№ 23
Из протокола допроса Камалетдинова Мутагара Мирхайдаровича от 27 октября 1936 г.
<...> Вопрос: Для чего Вы спрашивали Шамгулова 60 и Мустафина 61 о месте пребывания Курбангалиева Габдулхая?
Ответ: По поручению Гатауллина Мутыгуллы.
Вопрос: Для чего?
Ответ: Они с дореволюционного времени были в дружеских отношениях. Гатауллин хотел о нем узнать, Курбангалиев — ученик Гатауллина.
Из дела № 2301
№ 24
Из показания Камалетдинова Мутагара Мирхайдаровича
Я, Камалетдинов Мутагар Мирхайдарович, был выбран муллой в 1904 г.
-
<...> Переписывался с Абдрахманом Мустафиным и Мадьяром Шамгуловым, посылал им религиозную литературу. В 1927 г. Мустафин переехал в Токио, преподает в медресе. Я был в дружбе с Курбангали-евым, наши мысли — едины, поэтому я о нем справлялся.
Мустафин писал мне об Абдулхае Курбангалиеве.
Из дела № 2301
№ 25
Из протокола допроса Ханисламова Галлямутдина Хуснутдиновича от 26 августа 1936 г.
-
<...> Корреспонденции Курбангалиева относятся к 1917 г.
Вопрос: Откуда Вы знаете, что Курбангалиев находится в Чунь-Чане Кашгарской области?
Ответ: Об этом ничего не знаю.
Из дела № 2301
№ 26
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 28 мая 1946 г.
Вопрос: <...> Известно, что в 1921–[19]22 годах вами была выдвинута антисоветская идея о создании так называемого Урало-Алтайского тюрко-татарского националистического государства.
Ответ: В конце 1922 года, будучи в Токио, я имел встречу с находившимся там венгерским профессором филологом Баратоши 62. Во время первой мировой войны Баратоши находился в плену у русских в Якутии и изучал якутский язык как наиболее сохранившейся в чистом виде старо-тюркский язык. А затем в Японии он проводил сравнительные научные изыскания о сходности тюркского, японского языков. Развивая теории немецкого ученого Винкелера об языковой однородности группы народов урало-алтайского происхождения — монголы, маньчжуры, корейцы, японцы, тюрки, татары, башкиры, киргизы, узбеки, фины, эстонцы, венгры — Баратоши говорил о племенном единстве этих народов. Должен заметить, что эти взгляды весьма интересовали японцев. Выслушав Баратоши в частных беседах и его доклад на открытии в То- кио Великого Азиатского общества, я весьма заинтересовался выдвинутой им теорией в урало-алтайской группы народов ее принципиально разделял. Но тогда по этому вопросу публично не выступал и в то время идею создания урало-алтайской тюрко-татарского государства не выдвигал. Свою точку зрения по существу урало-алтайской группы народов я высказал позднее, после того, как эту теорию тщательно изучил.
Вопрос: По заданию японцев?
Ответ: С марта 1923 года по октябрь 1924 я проживал в городе Дайрен, и служил у японцев в качестве советника правления Южно-Маньчжурской железной дороги. На эту должность я был рекомендован Готто и приглашен директором в ЮМЖД Мацуока 63, впоследствии министром иностранных дел Японии. По заданию японцев подготовил к печати научный труд о сущности магометанства. Параллельно, частным образом, изучал вопрос об урало-алтайской группе народов, убедившись в результате этого в научной обоснованности концепции Барато-ши. Специального задания от японцев относительно изучении теории об урало-алтайцев я не имел. Повторяю, японцы мне официально поручили подготовить книгу о магометанстве.
Из дела № 1741
№ 27
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 25 июня 1946 г.
<...> Обстоятельства, при которых я выступал на страницах журнала «Япон Мухбери» с этой урало-алтайской теорией, были таковы. Осенью 1933 года из Европы в Японию приехал мусульманин, эмигрант из Советской России, татарский писатель Гаяз Исхаки. Находясь до этого в различных европейских государствах, Исхаки объединил вокруг себе группу мусульман-эмигрантов из России, создав из них организацию Идель-Урал, которая своею целью ставила свержение Советской власти и создание самостоятельного тюрко-татарского националистического государства на территории СССР от Волги до Урала.
Первое время пребывания Исхаки в Японии между нами были нормальные отношения, но потом испортились. Он вербовал себе приверженцев под лозунгом идель-урала. На страницах журнала «Япон Мухбе-ри» я выступил со статьей, в которой доказывал необоснованность идель-уральского лозунга и выдвинул известную урало-алтайскую теорию как более серьезную жизненную проблему для народов. Я писал, что националистическое тюрко-татарское государство, образование которого проповедует Исхаки, не сумеет быть самостоятельным, так будет являться островом в море определенной Советской системы, или же, даже в случае свержения Советской власти, так или иначе будет окружено русскими, которые силой подавят Идель-Уральское государство. По моему мнению, изложенному в этой статье, для сохранения действительной самостоятельности народов необходимо объединение их в мощные племенные союзы — панславянизм, пантюркизм, англосаксы. И, в частности, писал о серьезности теории общности народов уралоалтайского группы как основания для движения под лозунгом консолидации народов, проживающих на территории от Фузи (священная гора в Японии) до Каспийского моря, то есть Японии, Манчжурии, Кореи, всех советских народов Сибири и Средней Азии. Я имел в виду при этом не образование из перечисленных народов Урало-Алтайского государства, а ставил вопрос только о солидарности их интересов в предоставлении самостоятельного существования каждого из этих народов.
Из дела № 1741
№ 28.
Из протокола допроса Курбангали Мухамеда Габдулхая от 17 сентября 1945 г.
<...> На средства союза магометан в Токио мною была открыта школа для обучения детей магометан, типография для печатания учебников и Корана на арабском шрифте, а в 1937 году построена мечеть. На открытие этой мечети в 1938 году мною были приглашены высокопоставленные лица магометанского вероисповедания, с которыми я переписывался по религиозным вопросам. В частности по моему приглашению приехали: представитель аравийского короля, посол Аравии в Лондоне Хафиз Вагоба, сын йеменского короля принц Хусейн, посланник египетского короля в Токио Абдул Вагаб Саидбей, посланники Ирана в Токио Шейбани и Афганистана Тарзи. Всего, кроме этих лиц, из различных городов Китая приехало около 20 представителей китайцев-магометан. Однако мне самому на открытие мечети присутствовать не пришлось, ибо за несколько дней до этого я был по требованию японского генерального штаба арестован японской полицией.
Вопрос: За что вас арестовали японцы?
Ответ: Японский генеральный штаб считал, что магометанская религия противоречит основам японского государства, ибо она исповедует единого бога — Аллаха, отрицая тем самым божественность японского императора. После 24-дневного пребывания под стражей я был освобожден японской полицией и выслан в город Дайрен.
<...> Японцы потребовали, чтоб я перестал заниматься распространением магометанской религии в Японии и выехал на постоянное жительство в Манчжурию. Я вынужден был согласиться, и в июне
1938 года, будучи освобожден из-под стражи, выехал в Дайрен, где находился до дня вступления частей Красной армии.
Вопрос: А на какие средства вы существовали, проживая в Японии?
Ответ: При выезде из Токио я имел около 10 тысяч йен, и кроме того, в Дайрене мне систематически оказывали помощь местные китайцы-магометане.
<...> Я арендовал дом, принадлежавший атаману Семенову и поддерживал с ним на этой почве знакомство. Никаких политических целей моя встреча с атаманом Семеновым не преследовала. Наиболее близкие взаимоотношения я поддерживал с китайцами-магометанами: главным ахуном Манчжурии Чжан Цзован, главным ахуном города Пекина Ван, с которыми переписывался и пользовался у них авторитетом. Они меня называли великим имамом, а общество магометан в Дайрене в знак своего уважения ко мне установило мне памятник в Дайренской мечети 64.
Из дела № 1741
Список литературы «Великий имам Дальнего Востока» Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев
- Таган Г. Башкиры в Забайкалье. Публикация А. М. Юлдашбаева//Ватандаш, 1998. № 8, 9, 10.
- Кульшарипов М. М. Башкирское национальное движение. 1917-1921 гг. Уфа, 2000.
- Нисияма К. Мусульмане в Японии. Вступительная статья и редакция А. Г. Салихова//Ватандаш, 1999. № 10. С. 188-195.
- ЮнусоваА. Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999.
- Пушков В. В., Шаравин А. А. На карте Генерального штаба Манчжурия. М., 2000. С. 210.
- Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты. Воспоминания. Новониколаевск, 1925. С. 55.
- Будберг А. Дневник белогвардейца (Колчаковская эпопея). Л., 1929. С. 272.
- Таган Г. Башкиры в Забайкалье//Ватандаш, 1998. № 8. С. 126.
- Атаман Семенов. О себе (Воспоминания, мысли и выводы). М., 1999. С. 202.