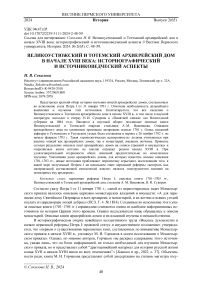Великоустюжский и Тотемский архиерейский дом в начале XVIII века: историографический и источниковедческий аспекты
Автор: Соколова Н.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Новые прочтения исторических источников
Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлен краткий обзор истории изучения описей архиерейских домов, составленных во исполнение указа Петра I от 31 января 1701 г. Отмечена необходимость дальнейшего выявления и изучения этих источников. Констатируется, что все сведения о Великоустюжском и Тотемском архиерейском доме в начале XVIII в., в том числе в научной литературе, восходят к очерку Н. И. Суворова в «Памятной книжке для Вологодской губернии на 1864 год». Вводятся в научный оборот подлинные описные книги Великоустюжской и Тотемской епархии стольника А. М. Вешнякова. Описание архиерейского дома по косвенным признакам датировано осенью 1701 г. Опись владений кафедры в Устюжском и Усольском уездах была составлена в период с 26 ноября 1702 г. по начало февраля 1703 г. Такая «хронологическая асинхронность» должна учитываться при анализе описей как архиерейских домов, так и монастырей, имевших вотчины. Принятое сегодня разделение описных книг архиерейских домов на «описи строений и имущества» и «переписные книги вотчин» не вполне отражает реалии начала XVIII в. При удовлетворительной сохранности обоих описаний предпочтительно их комплексное изучение. Увеличивая долю архиерейских домов, для которых известны полные описания 1701-1703 гг., новые источники приближают перспективу серьезного исследования того, в какой мере полученный Петром I на начальном этапе церковной реформы «контроль над материальной составляющей епископской власти» являлся «инструментом влияния на непокорных ему архиереев».
Церковная реформа петра i, описные книги 1701-1705 гг, великоустюжский и тотемский архиерейский дом, стольник а. м. вешняков, н. и. суворов
Короткий адрес: https://sciup.org/147246536
IDR: 147246536 | УДК: 94(47).05 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-48-59
Текст научной статьи Великоустюжский и Тотемский архиерейский дом в начале XVIII века: историографический и источниковедческий аспекты
Согласно указу Петра I от 31 января 1701 г., одной из первоочередных задач Монастырского приказа являлось описание церковно-монастырских владений и имуществ: «А для переписки дому Святейшаго Патриарха и всех архиереев, и монастырей, и их вотчин и всяких угодий послать из царедворцев людей добрых» (ПСЗ. Т. 4. № 1834). Созданные во исполнение этого указа описные книги (1701–1705 гг.) справедливо считаются одним из наиболее информативных источников по истории Церкви этого времени. Однако исследователи чаще обращались к описям монастырей. Описные книги архиерейских домов и их владений изучены в меньшей степени.
В историографическом очерке новейшего коллективного труда «Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I: правовой статус и имущественное положение» утверждается, что «первым о существовании переписных книг, составленных по инициативе Монастырского приказа в начале XVIII в., упомянул М. И. Горчаков в своем исследовании о Монастырском приказе». Однако, по мнению авторов, Горчаков «не раскрыл содержание этого источника, указав лишь, что он богат информацией, не только необходимой для изучения Монастырского приказа, но и представляет собой “драгоценнейший материал для истории русской жизни конца XVII и начала XVIII веков во всех отношениях”» [ Башнин и др., 2022, с. 37]. Объективности ради, книга М. И. Горчакова представляет собой диссертацию на степень магистра госу-
дарственного права, то есть его исследование изначально имело иные предмет и целеполагание. Кроме того, он не просто «упомянул» о существовании этих описных книг. В приложениях опубликованы преамбулы описаний двух монастырей, а в сносках встречаются отсылки к другим известным ему описям.
В контексте настоящей статьи следует подчеркнуть, что в работе М. И. Горчакова присутствуют сведения и об описных книгах архиерейского дома. Он обратил внимание на одну из публикаций Археографической комиссии: «Так в “Описи” документов “домовотчинной” вологодского епископа, напечатанной в Проток. Археогр. Ком. 12 авг. 1863 г., под п. 237 значится от 1701 июня 3. Список с описи, учиненной, по наказу Монастырского Приказа, стольником Васильем Кошелевым, имеющимся в вологодском архиерейском доме, ризнице и в казенных палатах приходным и расходным книгам, и денежной казне, также серебряной, оловянной и медной посуде и всяким вещам, жалованным грамотам, вотчинным крепостям и сделочным письмам» [ Горчаков , 1868, с. 137]. Впрочем, необходимо уточнить, что подготовленная П. И. Савваитовым «Опись» 1756 г. была напечатана (в извлечениях) в 1865 году в «Летописи занятий Археографической комиссии» (Опись имеющимся…, 1865, отд. III, с. 132). Публикация в том же году вологодским краеведом Н. И. Суворовым фрагментов описи В. И. Кошелева (Опись имущества…, 1865, стб. 114–128) М. И. Горчакову, похоже, осталась неизвестна. Речь идет о рукописи, хранящейся ныне в Вологодском областном архиве (ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 238). Издавший текст описной книги Н. В. Башнин (Описи Вологодского архиерейского дома…, 2020, с. 176–309) считает ее «экземпляром описи, который остался в Вологде» [ Башнин и др., 2022, с. 202], тем самым присоединяясь к ранее высказывавшемуся мнению о составлении описей в двух экземплярах. Обращение к кодексу показывает, что он не имеет удостоверительных записей, и нет оснований думать, что скрепы были обрезаны позднее. Следовательно, эта рукопись не была одним из официальных «экземпляров» описаний.
Во втором томе книги «Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы» И. М. Покровский в примечаниях упоминает две описи из Архива Министерства юстиции (МАМЮ) («по Мон. Прик. кн. № 53» Вологодской епархии, «кн. Вятск. епархии № 55») [ Покровский , 1913, с. 7]. Однако в изданных работах он эти источники, кажется, не использовал.
Лишь шесть десятилетий спустя на описные книги вотчин Вологодской кафедры (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 53) обратила внимание Е. Н. Бакланова (Швейковская). «Перепись владений Вологодского архиерейского дома 1702–1703 гг., проведенная стольником В. И. Кошелевым» стала одним из источников при написании ее кандидатской диссертации, а затем и монографии [ Бакланова , 1972, 1976]. Иными словами, впервые описание архиерейского дома было подвергнуто содержательному анализу в академическом исследовании лишь в 1970-х гг. Научная публикация текста этой рукописи, включающей описи вотчин не только в Вологодском, но и в Московском, Галицком, Усольском и Яренском уездах, подготовлена Н. В. Башниным (Переписные книги вотчин Вологодского архиерейского дома…, 2019, с. 133–320).
Авторы упомянутого выше коллективного труда утверждают, что в книге «Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII в.» И. А. Булыгин «использовал 23 сохранившиеся переписные книги с описанием 4 архиерейских домов и 149 монастырей» [ Башнин и др., 2022, с. 38]. Однако сам исследователь расставлял акценты несколько иначе: «Нам известны 23 сохранившиеся переписные книги. Тщательное ознакомление с их содержанием показало, что в них описаны 4 архиерейских дома, 149 монастырей и более 70 церквей». Описания Крутицкого (Сарского и Подонского), Белгородского и Тамбовского архиерейских домов были им включены в перечни приложения [ Булыгин , 1977, с. 35, 318]. Однако в самом монографическом исследовании ни одна из этих книг (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 21, 28, 32) как источник использована не была. Иными словами, речь идет не об анализе содержания текстов, а лишь о введении данных рукописей в научный оборот. И можно только догадываться, что подразумевал автор под «четвертым» архиерейским домом.
А. Е. Виденеевой на II Уваровских чтениях (1993 г.) был сделан доклад об «описных книгах земельных владений Ростовского архиерейского дома, составленных в 1701–1702 годах» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 35, 6338, 6343), которые позднее были использованы исследователь- ницей в диссертации, монографии и статьях [Виденеева, 1994, 2004]. Н. М. Курганова в 1998 г. ввела в научный оборот описную книгу Суздальской соборной церкви и архиерейского дома из фондов Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника; изучающий сегодня этот источник М. И. Давыдов подготовил публикацию текста (Переписные книги Суздальской соборной церкви…, 2022) [Курганова, 1998; Давыдов, 2017; Давыдов, Шамина, 2021].
Описные книги Тверского архиерейского дома (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 46) представлены научному сообществу в статьях и монографии А. В. Матисона [ Матисон , 2021]; им также издана опись архива тверской кафедры (Опись архива…, 2019). Описание Коломенского архиерейского дома (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 58) изучается И. Н. Шаминой, опубликовавшей этот источник (Переписные книги Коломенского архиерейского дома…, 2022, с. 330–491) [ Давыдов , Шамина , 2021; Шамина , 2022]. К описным книгам Вятского архиерейского дома (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 55), которые были введены в научный оборот более столетия назад И. М. Покровским, в недавней работе обратился Н. В. Башнин [ Башнин и др., 2022, с. 199–243].
Попытка оценить степень изученности описаний архиерейских домов начала XVIII в. предпринята Н. В. Башниным в главе «Описи архиерейских домов: общее и особенное» ранее упомянутого коллективного исследования о правовом статусе и имущественном положении высшего духовенства в начале церковной реформы Петра I. В табл. 2 известные автору источники подразделяются: 1) на «описи строений и имущества»; 2) «переписные книги вотчин»; 3) «ведомости о хозяйстве». Появление последней графы, думается, несколько преждевременно, поскольку, как признает сам Башнин, «пока не известно ведомостей о хозяйстве архиерейских домов, за исключением Вологодского». По его мнению, из 20 архиерейских домов только для восьми (Новгородский, Рязанский, Псковский, Казанский, Смоленский, Нижегородский, Холмогорский и Астраханский) нет сведений о документации 1701–1703 гг.» [Там же, с. 196–198].
Как минимум спорным, на мой взгляд, является включение в таблицу описи А. И. Городецкого, в 1701 г. «посланного в Тобольский архиерейский дом для составления описи имущества и управления хозяйственными делами кафедры на время отсутствия митрополита», то есть не в рамках общего описания по указу 31 января 1701 г. и с наказом из Сибирского приказа за приписью дьяка Ивана Чепелева [Там же, с. 493, 499–505].
Не соответствует действительности утверждение Н. В. Башнина, что «описание вотчин Воронежского архиерейского дома, частично опубликованное, находится в архивном деле с заголовком “Переписная церковной утвари Лебедянского Троицкого монастыря”». Рукопись, опубликованная П. В. Никольским в «Воронежской старине» (Переписныя книги Воронежской епархии…, 1903), ранее уже была отнесена к описаниям монастырских владений, проводившихся «по всем уездам государства с 1702 по 1705 гг.» [ Степанова , 2011]. Однако, согласно преамбуле, она составлена в канцелярии воронежского епископа Митрофана «по грамоте из Монастырского приказу за приписью дьяка Ивана Иванова». Контекст, в котором упоминаются книги стольника М. Т. Толубеева 1701 и 1702 гг., свидетельствует, что на тот момент они уже существовали (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 261). Таким образом, документ, хранившийся в начале XX в. в МАМЮ как часть «вязки» («Дела Монастырского Приказа, 1702 г., Вязка 207, № 54»), Н. В. Башнин отождествил с кодексом (книгой) с тем же номером в фонде Монастырского приказа (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 54). Означает ли это, что автор не удосужился посмотреть «архивное дело с заголовком “Переписная церковной утвари Лебедянского Троицкого монастыря”», и, как ни абсурдно это звучит, рукопись никем из соавторов не была изучена de visu? Кроме того, данный конволют описей патриарших домовых монастырей ранее уже использовался при изучении монастырского землевладений и хозяйства, монастырской книжности [ Соколова , 2008, 2013, 2020].
Как представляется, в приведенном выше перечне кафедр, о которых «нет сведений о документации 1701–1703 гг.», должен присутствовать и Великоустюжский и Тотемский архиерейский дом. Н. В. Башнин констатирует, что «в 1701 г. была проведена следующая опись, список с нее выявил и использовал Н. И. Суворов (сейчас этот документ не найден)». Исследователь приводит сведения из очерка вологодского краеведа в «Памятной книжке для Вологодской губернии на 1864 год» [Суворов, 1864] как вполне достоверные: «Опись 1701 г. зафиксировала в Велико- устюжском архиерейском доме 1200 руб., 199 золотых и 85 ефимков, в штате было 83 человека, в вотчине значилось 34 деревни (130 дворов) и 448 душ м. п.» [Башнин и др., 2022, с. 198].
К статье Н. И. Суворова восходят все фактические данные о Великоустюжской кафедре по описанию начала XVIII в. и в работах М. С. Черкасовой. Так, в новейшей монографии «Вологда и Устюг в эпоху Петра I» она пишет: «В сентябре 1701 г., как установил Н. И. Суворов (здесь и ниже курсив мой. – Н. С. ), стольник Вешняков переписал Устюжский архиерейский дом, весь его штат слуг (83 чел.), имущество, денежные средства (1200 руб.), хлебные запасы (3328 четв. ржи, ячменя и овса), драгоценную утварь, документы (числом 50), деревни со дворами крестьян и половников (всего числом 130) в Усольском и Устюжском уездах, размеры оброков в архиерейскую казну и государственных платежей (стрелецкая рублевая подать)» [ Черкасова , 2021, с. 72]. «Что касается хозяйственной организации самой домовой вотчины, – вновь обращается к статье Суворова исследовательница далее, – то она отражена в переписной книге стольника Монастырского приказа А. С. Вешнякова (так в монографии. – Н. С. ), составленной в сентябре 1701 г. Ее местонахождение нам неизвестно, поэтому используем данные, приведенные из нее в очерке Н. И. Суворова . Архиерейскому дому принадлежало 130 дворов (78 с половиной крестьянских и 51 с половиной половничьих) в двух уездах – Устюжском и Яренском . Крестьяне были крепки архиерею “по писцовым книгам”, а половники – по порядным записям. Денежный оброк составлял от 2,75 до 6,0 руб. с крестьянского двора, а выплаты половников “пожилого” по порядным записям – 1,0–1,5 руб. со двора, “приполонного” хлеба они вносили из расчета: 3 части в архиерейский дом, 2 части – на себя. И крестьяне, и половники платили стрелецкую рублевую подать и привлекались к сенокосам и другим сезонным работам на господской земле» [Там же, с. 100].
Статья в «Памятной книжке для Вологодской губернии на 1864 год» позиционируется автором как «топографический и статистический очерк г. Устюга Великого» в конце XVII столетия («между 1683 и 1701 годами») [ Суворов , 1864, с. 18]. Архиерейскому дому в ней посвящен один из параграфов третьего раздела, что составляет чуть больше 20 % от общего объема текста. Н. И. Суворов приводит «полное заглавие» документа, откуда им «заимствованы» сведения: «Лета 1701 году сентября в … день выписка из переписных книг переписи стольника Андрея Михайловича Вешнякова дому преосвященного Иосифа архиепископа Великоустюжского и Тотемского домовой всякой казне». Однако, судя по содержанию очерка, его источник не сводился к описи «домовой всякой казны». Вопрос о том, что это за «выписка», когда, кем и с какой целью она была сделана, остается открытым.
Подлинник описных книг Великоустюжского и Тотемского архиерейского дома и его вотчинных владений стольника А. М. Вешнякова удалось выявить в фонде Монастырского приказа (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439). Рукопись без переплета, в 2° (31,0×20,5), на 56 листах. Без начала. Фолиация арабскими цифрами, чернилами, выполненная в верхнем внешнем углу листов, начинается с номера 39. На листах 40 об. – 41 об. помета «страница | и лист | пороз-жие». Текст написан несколькими почерками (как минимум тремя) в семи стандартных восьмилистных тетрадях. Отдельные листы в пятой и седьмой тетрадях оторвались по сгибу.
Бумага рукописи имеет филиграни «Голова шута» с семью зубцами на воротнике в двух вариантах, которые, по классификации Т. В. Диановой, относятся к «самой многочисленной первой группе» филиграней этого типа для последнего десятилетия XVII в. В водяном знаке бумаги первых четырех тетрадей литеры и контрамарки отсутствуют. Начиная с пятой тетради филигрань имеет литерное сопровождение под основанием изображения шута (HG) и контрамарку в середине левого полулиста бумажной формы в виде буквы А [ Дианова , 1997, с. 19, с. 83, № 363].
За исключением чистых листов 41 и 94, а также «титульного» л. 71, рукопись скреплена на боковом внешнем поле переписчиком А. М. Вешняковым («Стольник Андрей Вешняков»). Скрепа читается на двух начальных листах (листы 39–40), затем, прервавшись на «порозжем» листе, продолжается на листах 42–70. Тетради с пятой по седьмую имеют на боковом поле скрепы стольника Вешнякова и дьяка Монастырского приказа Герасима Потапиева.
Кому принадлежат рукоприкладства на нижнем поле листов 39 и 40 («при|ложил» и дважды «руку | приложил»), скорее всего, можно установить лишь в случае обнаружения в архиве предшествующей тетради. На листах 42–70 на нижнем поле читаются четыре скрепы: 1) «Приказной Еким Федоров руку приложил», 2) «К сим переписным книгам казначей иерамонах Пи-тирим руку приложил», 3) «К сим переписным книгам диок Данило Игнатьев руку приложил», 4) «К сим переписным книгам диок Иван Волков руку приложил». На листах 72–93 всего два рукоприкладства. Скрепа «приказного» Федорова здесь более пространная: «К сим переписным книгам приказной Еким Федоров руку приложил». Вторая скрепа принадлежит новому казначею архиерейского дома: «К сим переписным книгам казначей игумен Филарет руку приложил».
За исключением последнего, все оставившие рукоприкладства на нижнем поле присутствуют в самом тексте, в перечне служителей архиерейского дома, что позволяет уточнить их происхождение, время и некоторые обстоятельства начала службы, жалование (при его наличии). Так, казначей иеромонах Питирим был «взят в архиерейской дом ис Прилуцкого монастыря в прошлом 203-м году в крестовые. А по архиерейскому указу в казначеях он с прошлого 1700 году марта с 7 числа. А денежного жалования ему нет» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439. Л. 58 об.).
Еще до официального поставления архиепископа Великоустюжского и Тотемского Иосифа в «приказные» кафедры указом Петра I был назначен из подьячих Холопьего приказа Яким (Еким) Федоров, сын московского «торгового человека»: «По указу великого государя и по грамоте из Приказу Большого дворца за азовскую службу велено ему быть приказным с прошлого 1700-го году февраля с 16 числа. А годового жалованья ему учинено на год по дват-цати четвертей ржи, овса потому ж. А в даче крестьян и земли, так же детей, и племянников, и внучат нет. А прежде сего был в Приказе холопья суда в подьячих. А отец ево был москвитин торговой человек. А родился он Яким на Москве» (Там же. Л. 59 об.).
Описные книги скрепили оба дьяка, состоявшие в начале XVIII в. в штате архиерейского дома. Согласно источнику, Ивану Волкову «велено … быть в доме архиерейском дьяком по указу великого государя и по грамоте из Приказу Большого дворца в прошлом 1700-м году. А хлебного жалованья ему в год ржи по дватцати четвертей, овса потому ж. А крестьян и земли кроме вышеписанного жалования, так же и детей, и племянников, и внучат нет. А рождение ево в Владимирском уезде в селе Ундале, священнической сын» (Там же). Он был отстранен от дел кафедры по указу Петра I от 4 июня 1703 г. (ВУЦА. Ф. 363. Оп. 1. Д. 10).
Второй дьяк – Данила Игнатьев – старожил на службе Великоустюжскому архиерейскому дому [ Устинова , 2014]. Переписчик А. М. Вешняков зафиксировал его деятельность в качестве дьяка архиепископа Александра с 1691/1692 г.: «Велено ему быть в доме архиерейском дьяком по указу великого государя и по грамоте из Приказу Большого дворца в прошлом в 200-м году ис подьячих (так в тексте. – Н. С. ). А рождение ево в Суздале. А годового ему хлебного жалованья ржи по дватцати четвертей, овса тож, а денежного жалования, и внучат, и племянников нет» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439. Л. 59 об. – 60). Упомянутый в тексте документ, по-видимому, можно отождествить с указной памятью из Приказа Большого дворца от 27 февраля 1692 г. за приписью дьяка Н. А. Пояркова. В ней изложено челобитье Д. Л. Игнатьева, в котором он мотивировал прошение о назначении в дьяки своей многолетней службой государю в качестве подьячего, военными заслугами отца и тем, что он уже был дьяком при прежнем владыке Гела-сии (ВУЦА. Ф. 363. Оп. 1. Д. 1). Описные книги 1701 г. стольника Вешнякова свидетельствуют, что его служебная карьера продолжилась и при третьем архиепископе.
Таким образом, источник опровергает вывод М. С. Черкасовой, что «конфигурация исполнительной власти архиерейского дома – монах-казначей и светский дьяк – в 1700 г. осталась неизменной» [ Черкасова , 2017, с. 229]. Более того, согласно опубликованным ей документам, «приказной» Яким Федоров и дьяк Иван Волков уже весной 1700 г. входили в круг статусных светских служителей владыки Иосифа, будучи, в отличие от дьяка Д. Л. Игнатьева, непосредственно при архиерее, находившемся в это время в Москве (Указ архиепископа Иосифа… 1700 г. марта 4, с. 258; Указ архиепископа Иосифа… 1700 г. мая 2, с. 266).
Представление о том, что «приказный, он же обычно глава казны, и это почти всегда было монашеское лицо в ранге архимандрита» [Черкасова, 2021, с. 96], также не находит под- тверждения в рассматриваемом источнике. На момент описания вотчин кафедры «приказным» оставался тот же Яким Федоров. Казначея игумена Филарета удалось идентифицировать по почерку. Его скрепа на описных книгах вотчин архиерейского дома тождественна скрепе игумена Филарета на описи Николаевского Прилуцкого монастыря того же стольника А. М. Вешнякова (1701 г.). По листам вотчинного описания монастыря (с датой 15 октября 1702 г. в преамбуле) читается рукоприкладство архимандрита Игнатия. Следовательно, назначение нового архиерейского казначея произошло не позднее этого времени (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 44. Л. 224–255). В мае 1704 г. статус обоих при великоустюжском архиепископе не изменился (ВУЦА. Ф. 363. Д. 9. Л. 11–11 об.).
Следует подчеркнуть, что на листах 70 и 93 последний элемент всех скреп находится не на полях, а после основного текста, свидетельствуя о завершенности описей. Таким образом, исходя из анализа тетрадной формулы рукописи, водяных знаков бумаги и скреп, можно сделать вывод, что в тетрадях 1–4 и 5–7 помещены два разных документа, формально никак не связанных.
Первый документ открывается описью имущества (без начала), среди которого книги, кресла, лампада, подушки, два гребня, «ковер большой, да пять ковров средних и малых, да два литийных маленьких и в том числе один ветхой», «шесть орлецов новых да старых тож», «две книги, одна книга в десть печатная в коже правильная, другая писмяная в досках освещать ан-тимисы» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439. Л. 39–40). Перечень похож на заключительную часть описей ризниц Вологодского (ГАВО. Д. 883. Оп. 1. Д. 238. Л. 19–20) и Коломенского архиерейских домов (Переписные книги Коломенского архиерейского дома… , 2022, с. 369). Очевидно, что нахождение данного фрагмента в рассматриваемой рукописи обусловлено тем, что он написан на первых листах тетради, в которой далее размещено описание архиерейского дома.
Текст, начинающийся на л. 42 со слов «на архиерейской двор врата святые…», представляет собой, в первую очередь, описание архиерейского двора как резиденция архиепископа – теплой каменной церкви Иоанна Предтечи и церкви Рождества Христова над ней, административных, жилых и хозяйственных помещений, казны, архиерейского архива, книг, ограды и т.д., а также владений и хозяйства кафедры – в самом Устюге и вблизи него. Воспроизведенного Н. И. Суворовым заголовка (с датой) в подлинном описании нет. Датировать первую часть рукописи можно по косвенным признакам. В описи архиерейского архива упомянуты «в столпу отписи московские по нынешней 1701 год» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439. Л. 49). Хронологические рамки описания могут быть сужены на основании «скаски» половников деревни Гурцо-ва: «В нынешнем 1701-м году явилось по измолоту ярового хлеба ячмени тритцать четвертей, овса пятдесят четвертей. И из того хлеба отдадут они в архиерейские анбары ячмени двенат-цать четвертей, овса тритцать четвертей» (Там же. Л. 70). Иными словами, описание этой под-городней деревни («близ посаду») происходило, когда яровой хлеб уже сжат и «измолочен», но еще не передан в архиерейские амбары.
Источник раскрывает некоторые стороны функционирования архиерейского дома как структуры, которая обслуживала деятельность архиепископа Великоустюжского и Тотемского Иосифа, посредством которой он управлял епархией. В частности, под рубрикой «В архиерейском Розряде и в Доме монахов и приказных людей и всяких чинов» дан перечень архиерейских служителей. Его открывает следующая запись: «Духовных дел судия архимандрит Игнатий из Ывановского монастыря с прошлого 206-го году. А денежного и хлебного жалования ему нет, живет и питаетца в Ывановском монастыре» (Там же. Л. 58–58 об.). В описных книгах стольника А. М. Вешнякова, которые были поданы в Монастырский приказ 23 декабря 1701 г., в Ивановском монастыре такого насельника нет, а настоятелем назван игумен Илларион (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 44. Л. 197, 205 об.). Соответственно, можно уточнить датировку описания архиерейского дома – осень 1701 г., не позднее середины декабря. Таким образом, сентябрь 1701 г., указанный в очерке Суворова, нашим наблюдениям не противоречит.
Тексту второго документа предпослан титульный лист: «Книги переписные вотчинам Устюжского архиерея» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439. Л. 71). Описные книги имеют преамбулу: «Лета 1702-го ноября в 26 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по наказу из Монастырского приказу за приписью дьяка Герасима Потапиева стольник Андрей Михайлович Вешняков переписал сего году в разные месецех и числех за преосвященным Иосифом архиепископом Великоустюжским и Тотемским в Устюжском и в Усольском уездех в разных станех и волостех архиерейские вотчинные деревни, и в них архиерейские казенные скотные, и крестьянские и половничьи дворы, и в них всякое строение и заводы, и всякой скот, и в анбарех всякой хлеб молоченой и стоячей, и во дворех крестьян и половников по имяном с отцы и с прозвищы, и что у них детей и племянников и внучат и ротственников, и что в архиерейской дом с крестьян рублевых и оброчных и иных платежей, а с половников пожилых денег платят на год. А что чего переписано и то писано в сих переписных книгах ниже сего». Помета на этом же листе (характерным почерком дьяка Герасима Потапиева) содержит дату поступления описи в Монастырский приказ: «1703-го февраля в 11 день поданы с отпискою, учинить по помете на отписке» (Там же. Л. 72). Таким образом, вторая часть рассматриваемой рукописи (листы 71–93) представляет собой подлинные описные книги вотчин архиерейского дома в Устюжском и Усольском уездах. Даты в преамбуле и в приказной помете позволяют датировать описание временем с 26 ноября 1702 г. по начало февраля следующего года.
В очерке же Н. И. Суворова фигурирует только 1701 г., даже в тех случаях, когда он, повествуя о хлебных запасах архиерейского дома «в вотчинных деревнях и в устюжских анба-рах», или о количестве деревень, дворов и душ м. п. крестьян и половников в архиерейской вотчине, использует сведения из второго документа [ Суворов , 1864, с. 25, 27]. По-видимому, подлинную описную книгу он не видел, а в его «выписке» преамбула и приказная помета с датами отсутствовали. Впрочем, имеет право на существование и предположение, что краевед просто проигнорировал более поздние даты ради сохранения XVII века в названии. Так, его публикация 1865 г. названа «Опись имущества Вологодского архиерейского дома в конце XVII столетия», хотя в примечании указано, что описание было произведено по указу Петра I в 1701 г. (Опись имущества…, 1865, стб. 114).
Следует подчеркнуть, что какая-либо первичная историческая информация, которой бы не было в подлинных описных книгах в их нынешнем, то есть без начала, виде, в очерке Н. И. Суворова отсутствует. Сопоставление с подлинником немногочисленных цитат [ Суворов , 1864, с. 26] выявило пропуски текста («как писано выше сего по статьям», «да они ж денег платят по три рубли по шти алтын по четыре денги на год») (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6439. Л. 70, 93 об.). Нередко Суворов использует не информацию из документа, а результат ее обработки. Приведу пример: «Хлебных запасов архиер. дома, в 1701 году находившихся в вотчинных деревнях и в устюжских анбарах, было: ржи 1538 четвертей, ячмени 571 четверть, овса – 1219 четвертей, всего на деньги, по тогдашним ценам на эти продукты, около 2200 рублей» [ Суворов , 1864, с. 27]. Таких цифр в описных книгах нет. Учитывалось ли при этих расчетах то обстоятельства, что между описаниями 1) архиерейского дома и его владений в самом Устюге и 2) вотчин кафедры в Устюжском и Усольском уездах – интервал не менее года? Или хлебные запасы сентября 1701 г. в самом архиерейском доме и деревне Гурцова (вблизи устюжского посада) «объединены» с теми, что были в вотчинах кафедры год спустя, осенью 1702 г.? Как считались денежные доходы архиерейского дома или количества душ м. п. в его вотчинах? Впрочем, с выявлением подлинника эти вопросы приобретают уже чисто историографический интерес.
Итак, источниковедческий анализ материалов описания Великоустюжского и Тотемского архиерейского дома и его владений свидетельствует, что мы имеем дело с двумя хронологически разновременными описями стольника А. М. Вешнякова. Общая практика переписчиков, начинавших работу в уездном городе (соборная церковь, архиерейский дом, городские или наиболее значимые пригородные монастыри и церкви), а лишь затем перемещавшихся на территорию уезда, неизбежно вызывала фрагментацию некоторых элементов описания. Так, сведения о хозяйстве архиерейского дома присутствуют и в тексте устюжского «городского» описания, и в более поздней «вотчинной» части. Монастыри, расположенные рядом с ними хозяйственные объекты и подмонастырская слобода обычно описывались одновременно, а вотчинные села – позднее, по мере передвижения переписчика по уезду. Фактор «хронологической асинхронности» также следует учитывать при анализе описей вотчин одного землевладельца в разных уездах.
Как представляется, общепринятое разделение описных книг архиерейских домов на «описи строений и имущества» и «переписные книги вотчин» не отвечает ни реалиям начала XVIII в., ни исследовательским задачам. Первое понятие не включает, например, сведения источника о структуре и служителях архиерейского дома, а второе – о доходах, не связанных с вотчинной экономикой, скажем, оброчных землях и угодьях, мельницах. Как представляется, при удовлетворительной сохранности обоих описаний предпочтительно их комплексное изучение.
Неспешная деятельность А. М. Вешнякова по описанию Великоустюжского и Тотемско-го архиерейского дома и его вотчин входит в явное противоречие с распространенным мнением, что «в начале церковной реформы была поставлена цель точно выяснить объемы церковных богатств по всей России, для чего и были проведены в сжатые сроки переписные работы» [ Башнин , Черкасова , 2021, p. 45]. Стольник Вешняков, назначение которого в Устюг и выдача ему наказа состоялись в первой декаде апреля 1701 г., по-видимому, вначале был сосредоточен на получении в казну денег по итогам переписи приходских церквей 1697 г. Отправка с ним подьячего Монастырского приказа Герасима Лушнева объясняется именно этой задачей, то есть он был нужен не для составления описных книг, а «для взятья денежные казны дватцать одна тысяча деветьсот сорок три рубли» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 26. Л. 3). Похоже, власть априори не рассматривала имущество и землевладение учрежденной лишь в 1682 г. кафедры как сколько-нибудь серьезный экономический ресурс. С введением в научный оборот описных книг Великоустюжского и Тотемского архиерейского дома доля кафедр, по которым известны сведения «об описях строений и имущества, а также о переписных книгах вотчин», составила 40 %. И вывод Н. В. Башнина и М. С. Черкасовой о том, что на начальном этапе церковной реформы Петр I «получил контроль над материальной составляющей епископской власти, а значит в его руках оказался инструмент влияния на непокорных ему архиереев» [ Башнин , Черкасова , 2021, p. 45], по-прежнему носит, скорее, декларативный характер. Но сам факт выявления новых источников внушает сдержанный оптимизм по поводу перспектив серьезного исследования этой проблемы.
Список литературы Великоустюжский и Тотемский архиерейский дом в начале XVIII века: историографический и источниковедческий аспекты
- Бакланова Е.Н. Хозяйство крестьян Вологодского уезда в последней четверти XVII - первой четверти XVIII вв.: автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1972. 28 с.
- Бакланова Е.Н. Крестьянский двор и община на русском Севере: конец XVII - начало XVIII в. М.: Наука, 1976. 221 с.
- Башнин Н.В., Устинова И.А., Шамина И.Н. Высшее духовенство в начале церковной реформы Петра I: правовой статус и имущественное положение. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2022. 704 с.
- Башнин Н.В., Черкасова М.С. Как начиналась церковная реформа Петра I? (по материалам севернорусских епархий 1690-1700-х гг.) // Canadian-American Slavic Studies. 2021. Vol. 55, no. 1. P. 24-50.
- Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII в. М.: Наука, 1977. 327 с.
- Виденеева А.Е. О новом источнике по истории землевладения Ростовского архиерейского дома рубежа XVII-XVIII веков // Уваровские чтения - II, Муром, 21-23 апреля 1993 г. М.: ИВФ Антал, 1994. С. 90-91.
- Виденеева А.Е. Ростовский архиерейский дом и система епархиального управления в России XVIII века. М.: Наука, 2004. 432 с.
- Горчаков М.И. Монастырский приказ (1649-1725 г.): опыт историческо-юридического исследования. СПб.: Тип. А. Траншеля, 1868. 159 с.
- Давыдов М.И. Высшие чины двора митрополита Илариона по переписным книгам Суздальской соборной церкви и архиерейского дома 1701 г. // Материалы исследований. Владимир, 2017. Вып. 22. С. 34-44.
- Давыдов М.И., Шамина И.Н. Библиотеки архиерейских домов конца XVII - начала XVIII в.: к постановке проблемы // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 36. С. 69-94.
- Дианова Т.В. Филиграни XVII-XVIII в. «Голова шута». Каталог (Труды Гос. ист. музея. Вып. 94). М., 1997. 166 с.
- Курганова Н.М. Переписная книга Суздальской соборной церкви и архиерейского дома 1701 года (обзор источника) // Материалы исследований. Владимир, 1998. Вып. 4. С. 51-55.
- Матисон А.В. Архиерейские дворяне, дети боярские и приказные служители в XVII-XVIII веках (Тверской архиерейский дом, 1675-1764). М.: Старая Басманная, 2021. 344 с.
- Покровский И.М. Русские епархии в XVI-XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. Т. II (XVIII в.). Казань: Центр. тип., 1913. II, 892, 48, XVIII с.
- Соколова Н.В. К реконструкции состава библиотеки Амвросиева Дудина монастыря в XVII в. // Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии: к 90-летию Н.Н. Покровского. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2020. С. 223-231.
- Соколова Н.В. Нижегородские вотчины Амвросиева Дудина монастыря в начале XVIII в. (землевладение, хозяйство, крестьяне, сельская община) // Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 6. C. 550-558.
- Соколова Н.В. Описание церковно-монастырских владений в процессе секуляризации начала XVIII века: опыт реконструкции (на материалах Нижегородского уезда) // Северо-Запад в аграрной истории России: межвуз. темат. сб. науч. тр. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. С.44-60.
- Степанова Ю.В. Монастыри города Ельца и Елецкого уезда по данным Переписной книги монастырских вотчин Воронежской епархии 1702 года // Воронежский вестник архивиста: научно-информационный ежегодник. Воронеж, 2011. Вып. 9. С. 235-237.
- Суворов Н.И. Устюг Великий в конце XVII в. // Памятная книжка для Вологодской губернии на 1864 год. Вологда, 1864. Отдел 2. С. 1-46.
- Устинова И.А. Служебная биография архиерейского дьяка Данилы Игнатьева: к вопросу о светском элементе в русском церковном управлении XVII в. // Тр. Ин-та рос. истории РАН. М., 2014. Вып. 12. С. 83-92.
- Черкасова М.С. Великоустюжский архиерейский дом: открытие и начальный этап деятельности (1682-1700 гг.) // Вестник церковной истории. 2017. № 1-2 (45-46). С. 193-271.
- Черкасова М.С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I (краеведческие очерки). Вологда: Изд-во Воло-год. гос. ун-та, 2021. 260 с.
- Шамина И.Н. Описание Коломенской епархии 1701-1702 гг. по данным рукоприкладств, помет и скреп в переписных книгах // Изв. Саратов. ун-та. История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 2. С. 144-151.