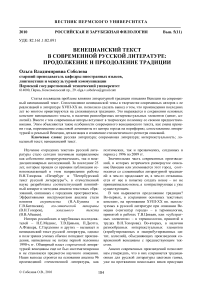Венецианский текст в современной русской литературе: продолжение и преодоление традиции
Автор: Соболева Ольга Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 5 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме влияния литературной традиции описания Венеции на современный венецианский текст. Сопоставление венецианской темы в творчестве современных авторов с ее реализацией в литературе XVIII-XX вв. позволило сделать вывод о том, что произведения последних лет во многом ориентируются на сложившуюся традицию. Это выражается в сохранении основных констант венецианского текста, в наличии разнообразных интертекстуальных элементов (цитат, аллюзий). Вместе с тем современные авторы вступают в творческую полемику со своими предшественниками. Этим объясняются такие особенности современного венецианского текста, как смена времени года, перемещение смысловой доминанты из центра города на периферию, сопоставление литературной и реальной Венеции, детализация и изменение стилистического регистра описаний.
Русская литература, современная литература, интертекстуальность, локальный текст, венецианский текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14728918
IDR: 14728918 | УДК: :
Текст научной статьи Венецианский текст в современной русской литературе: продолжение и преодоление традиции
Изучение «городских текстов» русской литературы стало сегодня значимым направлением как собственно литературоведческих, так и междисциплинарных исследований. За последние 25 лет, которые прошли со времени публикации основополагающей в этом направлении работы В.Н.Топорова «Петербург и "Петербургский текст русской литературы"», в отечественной науке разработаны соответствующий понятийный аппарат и методика анализа текстовых образований, связанных с городским пространством. Эффективными инструментами анализа стали понятия сверхтекста (Н.А.Купина и Г.В.Битенская), гео-этнической панорамы (В.Н.Топоров), локального текста (В.В.Абашев).
Интерес российских и зарубежных исследователей – Н.Е.Меднис, Т.В.Цивьян, П.Деотто, А.Флакера, С.Гардзонио и других – вызывает и венецианский текст русской литературы, однако в поле зрения ученых обычно попадают произведения, написанные не позже первой половины 1990-х гг. Обширный пласт современной литературной венецианы еще не был систематизирован и не становился предметом научного описания. Наши выводы строятся на основании анализа 96 произведений отечественной литературы, как поэтических, так и прозаических, созданных в период с 1996 по 2009 гг.
Значительная часть современных произведений, в которых встречается развернутое описание Венеции или упоминается этот город, соотносится со сложившейся литературной традицией: в чем-то продолжает ее, в чем-то отталкивается от нее в попытке создать новое – но не принципиально новое, а контрастирующее с уже существующим.
В чем выражается продолжение традиции? Во-первых, в сохранении основных текстовых констант, на протяжении XVIII-XX вв. используемых в русской литературе при описании Венеции («сигнатур города» – в терминологии, принятой в работах Т.В.Цивьян, или «субстратных элементов» – в терминологии, принятой в трудах В.Н.Топорова). Во-вторых, в наличии разнообразных интертекстуальных элементов (атрибутированных и неатрибутированных цитат, аллюзий), объединяющих произведения современной венецианы с предшествующим текстом.
Анализ современных произведений позволяет нам утверждать, что в них сохраняется традиционная для русской литературы цветовая гамма, уже на протяжении нескольких веков присущая
описаниям Венеции: это вариации на тему черного, золотого, красного, зеленого, голубого цветов (см., например, фрагмент повести Д.Рубиной «Высокая вода венецианцев»: «И пошла на цвет этого праздника вдоль витрин с горячей ослепляющей лавиной цветного венецианского стекла, вдоль переливов пурпурно-золотого, лазурного, кипяще-алого, янтарно-изумрудного» [Рубина 2004: 190]). Цветовое решение венецианских описаний в большинстве произведений настолько привычно, что диссонансом звучит на их фоне строчка Е.Рейна из стихотворения «Контора»: «Венеция цвела сиреневым, что Врубель» [Рейн 1997: 17]. С одной стороны, мы, казалось бы, признаем право автора на индивидуальное восприятие, но с другой – цвет настолько «не венецианский», что фраза производит впечатление фальшиво взятой ноты.
Интересна судьба сигнатур города в современной литературе (основные традиционные сигнатуры Венеции перечислены в работе Т.В.Цивьян [Цивьян 2001]). Иногда автор, используя их стандартный набор, уже сотни раз опробованный писателями предшествующих эпох, все же вносит в свое произведение определенную новизну, а порой пользуется ими как устоявшимися клише, как сигналами, которые автоматически, без дополнительных усилий с его стороны создадут у читателя образ города. Такой прием получает сейчас распространение в массовой литературе. Дело в том, что характерные черты Венеции хорошо знакомы широкому кругу читателей (стандартную формулу венецианского текста «вода + гондола + баркарола» в том или ином варианте назовет, пожалуй, любой, кого спросят, что такое Венеция). К тому же Венеция не только узнаваемый образ, но и образ (для среднестатистического читателя) безусловно положительный . Следовательно, его использование в массовом искусстве привлечет внимание аудитории, вызовет у нее ожидаемую реакцию. Сейчас и в западной, и в отечественной культуре происходят схожие процессы: традиционный набор венецианских сигнатур переходит из области элитарного в область массового, тиражируется с коммерческой целью.
Конечно, в России, в отличие от Запада, процесс «освоения» Венеции массовой культурой только начинается (что объясняется внешними причинами, сравнительно недавними изменениями политической, экономической, социальной ситуации в стране). Если переложить классический мотив «смерти в Венеции» на язык массовой культуры, получится популярный сегодня жанр детектива. В современной западной литературе существуют уже целые серии детек- тивов, объединенных венецианской темой (например, в известной серии романов Донны Леон о комиссаре Гвидо Брунетти уже 16 книг – и ожидается продолжение), у нас же пока это отдельные попытки, но тенденция налицо.
Обращается к образу Венеции и другой жанр современной массовой литературы – женский любовный роман. Нагромождение венецианских сигнатур мы наблюдаем, например, в «Путешествии с Казановой» Елены Крюковой: «Она снова будет в своей милой Венеции! Она видит родные каналы... мосты... слышит баркаролы... <...> – Я вижу, как сам Святой Марк летит из туч прямо к нам, слетает!.. Крылья за его спиной! Нимб над его головою!» [Крюкова 2009: 220]. Появилось и фантастическое «венецианское» произведение – роман Бориса Тараканова и Антона Федорова «Колесо в заброшенном парке» [Тараканов, Федоров 2004], герои которого совершают перемещение во времени и попадают в Венецию XVIII века.
Однако многие современные авторы не механически используют, а творчески переосмысливают традиционные сигнатуры. Приведем лишь один пример. По-прежнему значимыми в современном венецианском тексте являются мотивы зеркальности, двойничества. Казалось бы, современным авторам сложно привнести что-то новое в конкретное воплощение этих мотивов, однако это удается сделать Дине Рубиной в произведении «Высокая вода венецианцев».
Взаимодействие с традицией проявляется и в наличии интертекстуальных элементов, связывающих произведения современной венецианы с литературной традицией. Нужно отметить, что сам способ включения этих элементов в произведения говорит о том, что предшествующий текст воспринимается современными авторами как общеизвестный. Атрибутированных цитат в произведениях практически нет (исключение – эпиграфы). Основную же массу составляют не-атрибутированные (порой не заключенные в кавычки) цитаты и аллюзии. Приведем лишь несколько примеров:
Рябь какого-то канала из немытого окна и возвратного прилива набежавшая волна [Дозморов 2002: 15]
Нет! Всё, что есть, что было, — живо!
Мечты, виденья, думы — прочь!
Волна возвратного прилива
Бросает в бархатную ночь!
[Блок 1962: 114]
...ароматные пары, растворяющиеся над лагуной, над каналами и площадями « размокшей баранки »
[Иличевский 2008: 102]
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.
[Пастернак 1989: 56]
Особую группу интертекстуальных элементов современной венецианы представляют собой цитаты из произведений Бродского и аллюзии, связанные с ними. Это плодотворная для изучения тема, которая требует отдельного исследования, поэтому мы не касаемся этого аспекта в рамках данной статьи.
Необходимо отметить, что хорошее знание литературной традиции сегодня заставляет авторов не только следовать ей, но и в чем-то оттолкнуться от нее и рассказать о Венеции по-своему. В ряде современных произведений мы встречаем явную полемику с предшествующим венецианским текстом. По контрасту с типичным для русской лирики заглавием «Венеция» Ольга Мартынова называет свои стихотворения «Не о Венеции» и «Не о Венеции (2)». Алексей Пурин в стихотворении «Венеция» опровергает сложившиеся стереотипы восприятия и описания города (такие, как мотивы любви и смерти; маска, театральность; постепенное погружение города под воду).
«Свой» город, темный, пустынный, противопоставляется шаблонному парадному и в стихотворении Игоря Стратановского «И вот Венеция...».
Проанализировав произведения современных авторов, мы можем обозначить целый ряд признаков, которые свидетельствуют о стремлении преодолеть традицию предшествующей литературной венецианы:
-
- смена времени года (традиционные летние описания замещаются осенне-зимними);
-
- перемещение смысловой доминанты с центра города на периферию;
-
- сопоставление литературной и реальной Венеции, детализация описаний, появление примет не условного, а конкретного времени и конкретного пространства;
-
- изменение стилистического регистра при описании Венеции.
Рассмотрим эти признаки более подробно. Первое, что бросается в глаза при сопоставлении современных описаний Венеции с более ранними, – это явная смена времени года. Раньше на страницах литературных произведений город представал преимущественно летним: ярким, солнечным, наполненным шумной праздничной толпой. В современных же текстах Венеция чаще всего описывается поздней осенью, в ноябре, иногда зимой. Приведем лишь несколько примеров: название стихотворения Игоря Вишневецкого – «Венеция в феврале»; в феврале же происходит действие в воспоминаниях Андрея Кончаловского: «Февраль. Холодно. В тумане хлюпают на воде черные гондолы» [Кончаловский 1999: 190], о зимнем городе пишут Бахыт Кен-жеев и Борис Херсонский: «Зимой в Венеции туристы топ да топ...» [Кенжеев 2005: 40]; «“И новые тучи придут вслед за прежним дождем”. Екклезиаст – о зимней Венеции» [Херсонский 2009: 71]. «Поздним ноябрьским утром» идет в библиотеку Кверини, герой Глеба Смирнова [Смирнов 2003: 64]; осеннее венецианское ненастье сопровождает прогулки по городу, которые совершает героиня Дины Рубиной: «толкнула стеклянную дверь и вышла в дождь», «зябкий осенний день», «опять зарядил дождь», «закрыв ставни, нахохлившаяся Венеция ежилась под ударами ветра, рассыпающего мелкий холодный дождь, как пригоршни голубиного корма» [Рубина 2004: 211-219]; «глубокой осенью» приехала в Венецию Елена Холмогорова [Холмогорова 2003: 46]; «дождливый ноябрь» упоминается в стихотворении Елены Шварц [Шварц 2009: 39] и т. д.
Смена времени года при описании Венеции неизбежно влечет за собой некоторое изменение системы постоянных мотивов: современные авторы значительно чаще, чем их предшественники, упоминают «aqua alta» (ит. – высокая вода ) – венецианское наводнение. Это связано с тем, что самые сильные наводнения в Венеции приходятся, как правило, на конец осени.
Другим признаком, свидетельствующим о стремлении преодолеть существующую традицию описания города, становится перемещение смысловой доминанты венецианского пространства. Смысловая доминанта предшествующего текста находилась, безусловно, в центре города, на Пьяцетте и площади святого Марка. С этим местом связывались значимые мотивы судьбы, рока, предопределенности. Площадь святого Марка выступала репрезентацией Венеции в целом. Сейчас ситуация изменилась: изображение центра города воспринимается современными авторами как некое «общее место», как повторение уже сказанного. Его хрестоматийный облик создается несколькими чертами, чтобы обозначить, что действие происходит в Венеции. Само же действие, как правило, переносится с центра на периферию, при этом актуализируются моти- вы лабиринта, неожиданной встречи. Размышления героев связываются с блужданием по узким улочкам. По сравнению с предшествующим текстом, в котором изображение периферии часто было основано на нескольких условных штрихах (далекие огни, каналы), в последнее время география города постепенно расширяется, детализируется, описания обрастают конкретными топонимами. Еще одной ярко выраженной смысловой доминантой, появившейся в современной венециане, является кладбище Сан-Микеле, объединяющее комплекс мотивов, связанных с Иосифом Бродским.
В ходе анализа произведений нами была отмечена еще одна интересная особенность современной венецианы: множество попыток образно переосмыслить очертания города, тот особенный изгиб, который можно увидеть только если смотреть на Венецию с большой высоты или изучать ее на карте.
Форма Венеции породила в литературе самые разные ассоциации:
-
- улитка, раковина: «Город сконцентрирован, сжат каналами, свернут, как раковина, повернут к Богу» [Рубина 2004: 209]; «Венеции улиточный завой» [Мартынова 2004: 15]; «Венеция – улитка» [Мартынова 2007: 5];
-
- рыба: «Видит ли гигантская рыба Венеции акулу Сахалина?» [Балдин 2002: 45];
-
- символы инь и ян: «Двусреднодышащий инь-янь» [Пурин 2000: 30];
-
- женское тело: «вдруг она раскрывает свои ухоженные очертания, похожая на женщину, влажно раскидывающую ноги» [Бавильский 1998: 115];
-
- два пожирающих друг друга чудовища: «Над картой Венеции, над пристальным планом ее, / как шмель на шиповнике, в долгое впасть забытье, / как будто два зверя друг друга хотят проглотить. <...> Мне кажется, ты меня съела. – Нет, ты меня съел. / Две пасти, две страсти, разящих друг друга клешни» [Кушнер 1999: 4] .
Художественно переосмысляются и отдельные фрагменты карты. В «Венецийском детективе» К.Кобрина упоминается изящная мавританская сумочка-полумесяц [Кобрин 1998]. Рассказывая о литературной игре в своем произведении, автор поясняет, что форма сумочки его героини – коса, на которой расположен Лидо [Кобрин 2008].
Обобщая сказанное выше, еще раз охарактеризуем ситуацию, сложившуюся в современной венециане: с одной стороны, литературная традиция описания Венеции настолько сильна, что авторам сложно уйти от нее, с другой стороны, во многих текстах прослеживается стремление действовать «от противного», преодолеть традицию и представить свое видение, контрастирующее с общепринятым каноном. При этом неизбежно формируется новый стереотип восприятия и описания города: уход от штампа оборачивается новым штампом. Прогнозируя же дальнейшую судьбу венецианского текста, мы имеем все основания предполагать, что на нее окажет неизбежное влияние юбилей И.А.Бродского, вызвавший большой резонанс в литературных и научно-исследовательских кругах: современной литературе следует ожидать новых произведений, интертекстуально связанных с венецианой Бродского.
Senior Lecturer of Foreign Languages, Linguistics and Intercultural Communication Department Perm State Technical University
Список литературы Венецианский текст в современной русской литературе: продолжение и преодоление традиции
- Бавильский Д. Венеция. Письмо//Уральская новь. 1998. № 1. С. 115-123.
- Балдин А. Поход на букву «О»//Октябрь. 2002. № 8. С. 45-49.
- Блок А. Венеция//Собр. соч. в 8 т. Т. 3. М.-Л.: Гос. изд-во худож. лит, 1962. С. 114.
- Дозморов О. «Рябь какого-то канала...»//Арион. 2002. № 1. С. 15.
- Иличевский А. Матисс. М.: Время, 2008. 444 с.
- Кенжеев Б. «Зимой в Венеции...»//Кенжеев Б. «Названия нет»: Книга стихов. Алматы, 2005. С. 40.
- Кобрин К. Венецийский детектив. 1998. Рукопись.
- Кобрин К. Письмо от 4 мая 2008 г. Рукопись.
- Кончаловский А. Моя Венеция//Кончаловский А. Возвышающий обман. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1999. С. 185-191.
- Крюкова Е. Путешествие с Казановой. М.: Издательская компания «Подвиг», 2009. 288 с.
- Кушнер А. «Над картой Венеции...»//Новый мир. 1999. № 8. С. 4.
- Мартынова О. Не о Венеции//Новый мир. 2004. № 9. С. 15.
- Мартынова О. «Где на отлете мира тихий Грац...»//Звезда. 2007. № 1. С. 5.
- Пастернак Б. Венеция//Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1989. С. 56.
- Пурин А. Венеция//Пурин А. Сентиментальное путешествие. СПб.: Urbi, 2000. 104 с.
- Рейн Е. Контора//Арион. 1997. № 4. С. 17.
- Рубина Д. Высокая вода венецианцев//Рубина Д. Воскресная месса в Толедо. М.: Вагриус, 2004. С. 179-234.
- Смирнов Г. Я прежде знал//Вестник Европы. 2003. № 9. С. 40-64.
- Стратановский С. Стихи, написанные в Италии//Знамя. 2001 № 6. C. 54.
- Тараканов Б., Федоров А. Колесо в заброшенном парке. М.: Российская государственная библиотека («Пашков дом»), 2004. 400 с.
- Херсонский Б. «И новые тучи придут вслед за прежним дождем...»//Херсонский Б. Мраморный лист. М.: Арго-риск, 2009. 107 с.
- Холмогорова Е. Похвала верхоглядству//Знамя. 2003. № 1. С. 46-48.
- Цивьян Т. В. «Золотая голубятня у воды...»: Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций//Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 40-50.
- Шварц Е. Aqua alta//Знамя. 2009. № 5. С. 39.