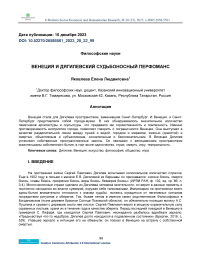Венеция и Дягилевский судьбоносный перфоманс
Автор: Яковлева Елена Людвиговна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 20 (22), 2023 года.
Бесплатный доступ
Венеция стала для Дягилева пространством, заменившим Санкт-Петербург. И Венеция, и Санкт-Петербург представляли собой города-музеи. В них обнаруживалось значительное количество памятников архитектуры и скульптуры, что придавало им торжественность и помпезность. Именно противоречивость восприятия города, позволяет говорить о пограничности Венеции. Она выступает в качестве разделительной линии между сушей и водой, городом и миражом, жизнью (красотой) и смертью, объективным и субъективным, сознательным и бессознательным. В Венеции Дягилев установил собственные пространственные законы. Он связывал с венецианским пространством экзистенциалы собственного бытия, в том числе одиночество, страх, смерть, игру, театральность.
Дягилев, Венеция, искусство, философия, общество, игра
Короткий адрес: https://sciup.org/14130038
IDR: 14130038 | DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_99
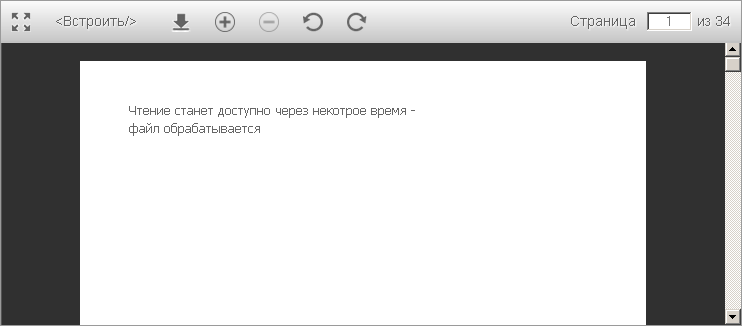
Текст научной статьи Венеция и Дягилевский судьбоносный перфоманс
На протяжении жизни Сергей Павлович Дягилев испытывал колоссальное количество страхов . Еще в 1902 году в письме к мачехе Е.В. Дягилевой из Варшавы он признавался: «жизни боюсь, смерти боюсь, славы боюсь, презрения боюсь, веры боюсь, безверия боюсь» (ИРЛИ РАН, ф. 102, ед. хр. 86, л. 3-4). Многочисленные страхи сделали из Дягилева человека мнительного: он верил в разные приметы и постоянно находился во власти суеверий, окружая себя талисманами. Импресарио на протяжении всего здесь-бытия внимательно относился к знакам судьбы, пытаясь оградиться от негативных сигналов посредством ритуалов и оберегов. Так, бывая летом в имении своих родственников Философовых в Богдановском (ныне деревня Красное Солнце Псковской области), он обязательно посещал могилу А.С. Пушкина и срывал с деревьев около нее листья. Сергей Павлович верил в мощную охранительную силу сорванных листьев, храня их в течение года в качестве оберега. Перед последней поездкой в Венецию в гримерной С. Лифаря, где находился Сергей Павлович, неожиданно разбилось вдребезги зеркало. «Предчувствуя что-то недоброе, Дягилев долго находился в подавленном состоянии» (Брезгин, 2016, с. 539). Упавшее зеркало и интуиция его не обманули: он поехал в Венецию на встречу с собственной смертью.
Необходимо признать, одним из мощных страхов, терзавшим импресарио, был страх перед смертью (вспомним фразу из приведенного письма, смерти боюсь ). Опосредованно он проявился в страхе перед инфекцией. И этот страх имел патологический характер. Сергей Павлович боялся инфекций. Услышав о них, он менял свои планы. Эпидемия в Греции в 1928 году заставила Дягилева отказаться от поездки в страну. Если кто-то из его окружения заболевал, то импресарио старательно избегал этого человека или прямого контакта с ним, разговаривая через дверь. Подобный эпизод описал композитор Игорь Стравинский. Сергей Павлович ежедневно навещал заболевшего друга, «но он так боялся заразиться, что не решался войти в палату» (Стравинский, 2018, с. 43). Данная фобия вызывала насмешки у друзей.
Дягилевский страх перед смертью пересекался со страхом перед водой . Он панически боялся путешествий по воде, отказывался от катаний на лодках и купаний в водоемах. Дело в том, что в юности цыганка-гадалка Блоха, жившая около Богдановского, предрекла ему смерть на воде . Необходимо признать, данному пророчеству суждено было сбыться. Страх смерти на воде с момента предсказания доминировал в жизни импресарио скандалов и впечатлений (Яковлева, 2022, с. 76-97), управляя (сознательно/бессознательно) ходом его жизни.
Все судьбоносные нити Дягилева стягивались к его финальной точке – Венеции . В ней сконцентрирована вся суть страхогенной натуры Сергея Павловича, что позволяет говорить о Венеции как месте гения (Д.Н. Замятин). Оно характеризуется как особое место сосредоточения печали и радости, «пространство образов, чувствуемых и формируемых гением», являя собой «разрывное, прерывистое и фрагментарное, заранее неполное единство отношений между фундаментальными, базовыми, основополагающими мифами, образами и архетипами "примордиального" сознания и подсознательного, может быть, бессознательного, и локальными, очень местными и сиюминутными метафорами и метонимиями повседневного, шумного и обычного бытия и быта» (Замятин, 2011). Данное пространство окружено силовыми линиями-волнами, представляющими собой его повседневные образы и связанную с ними информацию. Но «роль гения заключается в разложении обыденного, привычного, рутинного, традиционного образа места, отражении стандартных информационных и образных волн, в которых формируется и воспроизводится образ, их измельчении, переводу на микроуровень» (Замятин, 2011). Вследствие этого пространство становится значимым для творца, превращаясь в место гения.
II. МЕТОДОЛОГИЯ
Методами исследования проблемы избраны экзистенциальный, герменевтический и аналитический. На основе биографической литературы о С.П. Дягилеве, его писем выясняется, что импресарио испытывал огромное количество страхов, а пространством побега от них стала Венеция. В связи с этим, на основе теоретических положений Д.Н. Замятина по отношению к Венеции вводится понятие место гения. Сознательное избрание города в качестве пространства для умирания, позволившее проанализировать ситуацию на основе экзистенциальной новеллы Т. Манна «Смерть в Венеции», делает самого С.П. Дягилева гением места.
III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Венеция была местом гения Сергея Павловича Дягилева, символически содержа в себе код его судьбы. Страхогенность творческой натуры Сергея Павловича обусловила (сознательный/бессознательный) поиск пространств (временной) гармонизации собственного здесь-бытия. Для создания театральных зрелищ и активного действия дягилевской натуре требовалось пространство перезагрузки. В качестве подобного места для импресарио выступила Венеция.
№
В зависимости от природно-климатических условий она то уменьшала силу страха, то нагнетала его, что оказалось оптимальным вариантом для импресарио. Дело в том, что в здесь-бытии личности страх неоднозначен, воплощая «симпатическую антипатию и антипатическую симпатию» (Кьеркегор, 2014, с. 14). И наиболее показательна в этом отношении судьба художника. Для творческой личности страх неприятен и притягателен. Он одновременно «неприятное ощущение или смущение, возникающее из представления о предстоящем зле, которое может погубить нас или причинить нам неприятность» (Аристотель), и/или исток концентрации энергии, позволяющей индивиду действовать в экстремальных ситуациях или творить. Страх способен подавить личность, спровоцировав депрессивные состояния, апатию и отчаяние. Но при этом он может выступить в качестве вызова судьбе, стимула к творческим исканиям и воплощениям, раскрывая внутренний мир художника. Амбивалентность страха чутко ощущал С.П. Дягилев. По мнению исследователя А. Ласкина, в Венеции импресарио пытался «понять: отчего тут противоречия не раздражают, а образуют единство?» (Ласкин, 2013, с. 32). Осознавая страхогенность собственной натуры и связанные с этим метания, маэстро пытался гармонизировать себя в венецианском пространстве, испытать яркие эмоции и одновременно получить адреналин в своем заигрывании со смертью. Венецию импресарио чувствовал физически и интуитивно. Ее образ проник в его воображение и рефлексию о здесь-бытии. Импресарио имел собственное понимание города и всегда помнил о нем. Необходимо признать, что подобное неслучайно.
Парадоксальность Венеции потрясла Дягилева в его первый приезд в 1890 году. Для него этот «самый невероятный из всех городов на земле» (Манн, 2023, с. 263) стал олицетворением волшебного царства , поражающего своими контрастами. В письме Е.В. Дягилевой в октябре 1902 г. Сергей Павлович напишет: Венеция «более волшебна по смеси колдовства с явью», «заволокнута в туманы», а «яд в Венеции в том и состоит, что реальное, ощутимое соприкасается каждый миг с волшебным таинством, теряется сознание действительности» (ИРЛИ РАН, Ф. 102, Ед. хр. 84, Л.478-479).
У импресарио Венеция вызвала противоречивые чувства, обнажая его одиночество и страхи. Город завораживал и страшил, поглощал и обволакивал его, заставляя возвращаться в его пространство. Город играл для Дягилева роль онтологического порога , где осуществлялся выбор дальнейшего пути (из противоположных позиций), позволяющий продолжать движение в здесь-бытии.
Привлекательность Венеции для Дягилева обнаруживается в ее постоянных переходах. Венеция завораживала Сергея Павловича своей фатальной красотой умирания . Это пространство рождало идею гибели красоты, что легло в основу метафоры, высказанной его другом Д. Философовым, мертвый город . В письме к Е.В. Дягилевой Сергей Павлович подчеркивает: «иногда она до того красива, что хоть ложись и умирай, а иногда до того мрачна и вонюча, что хоть вон беги» (ИРЛИ РАН, Ф. 102, Ед. хр. 79, Л.109). При этом венецианская красота (как утверждение метафизического совершенства) одновременно оказывалась властной (как утверждение бытия) и ускользающей (как утверждение небытия/Ничто). В зависимости от погодных условий и субъективности восприятия для Сергея Павловича красота способствовала отвлечению от страхов и в тоже время их нагнетанию. В Венеции «прекрасное наступает, ведет себя агрессивно, демонстрирует свою избыточность» (Ласкин, 2013, с. 18). Но при этом «сколько ни старайся, ее (красоту – примеч. автора ) все равно невозможно исчерпать» (Ласкин, 2013, с. 36).
Необходимо подчеркнуть, изменчивость венецианского пейзажа соответствовала дягилевской натуре. В. Нувель вспоминал, что в дягилевской «душе идеи никогда не имели прочного фундамента», «он менял их, как перчатки» и «такая игра была для него наслаждением» (цит. по: Брезгин, 2016, с. 514). В.А. Дукельский в своей статье об импресарио подчеркивал: «в его работе беспрерывная смена кажется единственным принципом» (цит. по: Брезгин, 2016, с. 514).
Виды Венеции способствовали уединению импресарио, даже если он был в компании друзей. «Одиночество взращивает все самобытное, отважно и пугающе прекрасное», «лелеет и все превратное, несообразное, вздорное, даже запретное», что глубже западает в душу и тревожит ее еще сильнее (Манн, 2023, с. 270). Венеция способствовала вдумчивой дягилевской страсти и рождению из бесформенной тьмы творческих концепций.
Счастье каждого художника заключается в процессе оформления чувства в мысли. Но это заставляет испытать и боль: «слово способно лишь воспеть чувственную красоту, но не передать ее» (Манн, 2023, с. 310).
Ощущаемая импресарио пограничность Венеции (между красотой и смертью) стала истоком его азарта, держа в напряжении. Сергей Павлович то понимал, что «пребывание здесь не для него» (Манн, 2023, с. 291) и желал сбежать из-за боязни смерти на воде, то возвращался в город, который вдохновляюще действовал на него и способствовал рождению идей, воплощаемых в постановках антрепризы. Завороженность Венецией была обусловлена ее театральной изменчивостью: то город был «в полном блеске», поражая «вереницей диковинных зданий,.. ажурным великолепием дворцов, мостом Вздохов, увенчанными львами колоннами», то его окутывало «промозглой мерзостью», накрывая мятущуюся натуру волной противоречивых чувств (восторгом и смятением) (Манн, 2023, с. 261, 263, 262). Но «гипнотическое зрелище морской глади» в Венеции способствовало потере «чувства времени, погружая разум в сумерки безмерности» (Манн, 2023, с. 283, 261). Венеция рождала «разлад между порывами души и запросами тела» (Манн, 2023, с. 291). Она способствовала смятению и даже душевной боли: «уезжать – немыслимо, возвращаться – тем паче» (Манн, 2023, с. 291). Город одновременно был местом счастья, радости, азарта и страха, позволяя всматриваться в себя, ощущать правду сердца и боль души. В Венеции как месте систематических побегов от страхов и разнообразных проблем Дягилев находил утешение. Она притягивала к себе, играя роль пространства для забытья, отдыха, воодушевления, накопления энергий, выстраивания стратегий. Город стал местом, где импресарио углублялся в себя, мечтал, черпал вдохновение для творчества. Ему, как человеку одинокому, в венецианском пространстве было легко. Венеция обладала чарующей властью (Т. Манн). Ввиду дягилевской привязанности к Венеции, она стала местом гения, родным городом, созвучным его страхогенной, мятущейся, трагически одинокой натуре. Венецианское пространство обнажало дягилевское одиночество, с пониманием которого он и ушел из жизни в вечное одиночество, несмотря на присутствие близких людей. Выбор Дягилевым Венеции неслучаен. Она напоминала ему Санкт-Петербург, где прошла молодость Сергея Павловича, началась его творческая деятельность. Город на Неве стал пространством для полета воображения и творческой реализации будущего импресарио. Но в силу ряда обстоятельств Сергей Павлович покинул навсегда значимый для него город, что заставило искать ему замену. Венеция стала для Дягилева пространством, заменившим Санкт-Петербург. Как справедливо заметил Д.Н. Замятин, «географические образы представляют собой в генетическом плане… пространственные конструкты, что подразумевает проведение повторяющихся ментальных операций как бы удвоения видимого, чувствуемого, переживаемого, мыслимого земного пространства» (Замятин, 2011). У Сергея Павловича произошло удвоение петербургского пространства: импресарио спроецировал его топографию на венецианскую. В городах оказалось много общего. И Венеция, и Санкт-Петербург представляют собой города-музеи. В них обнаруживается значительное количество памятников архитектуры и скульптуры, что придает им торжественность и помпезность. Оба города возникли весной в северной части стран на заболоченной местности: Венеция – на севере Италии, Санкт-Петербург – в северном направлении от центра России. Оба города в течении определенного времени играли роль столиц государств. Внутри венецианских и петербургских городских пространств можно обнаружить пересечение множества каналов и рек. Ситуация переноса петербургской топографии на венецианскую неслучайна: она является показателем экзистенциальности пространств.
Ввиду того, что вторая половина жизни Дягилева прошла вне России, то в его жизни осуществились, по Д.Н. Замятину, стратегии пересмотра места и расширения образно-географических контекстов места (Замятин, 2011). Каждая из стратегий имеет свою специфику. Так, «стратегия "пересмотра места" предполагает образно-географическое смещение, перемещение, передвижение места из одного контекста в другой» (Замятин, 2011), что продиктовано новыми обстоятельствами и фактами жизни Сергея Павловича.
Данные причины способствовали проявлению «стратегии расширения образно-географических контекстов места», порождая иные, «более широкие образно-географические контексты или более широкое осмысление старых контекстов» (Замятин, 2011).
Отметим, "оптика" гения выворачивает место "наизнанку", что делает его близким для творца, но невидимым для других (Замятин, 2011). Данное положение позволяет предположить, что Дягилев для себя осуществил кодификацию Венеции, превратив ее в субъективный город-символ, пространство для периодического укрывания от страхов, уменьшения силы их давления и одновременно заигрывания со страхами, особенно страхом смерти на воде. Благодаря постоянному возвращению в Венецию ее образ «постоянно обновляется, место вновь и вновь появляется в волновом поле, "освещается", становится видимым, затем исчезает в зонах невидимости, вновь появляется и т.д., свидетельствуя «об образногеографических циклах взаимодействия гения и места» (Замятин, 2011).
Избыток прекрасного в городе удовлетворял дягилевское миропонимание и эстетический вкус. Театральное видение Венеции объясняло прерывистость циклов взаимодействия с городом: после встречи с искусством человек возвращается в повседневную жизнь с ее рутинностью. Ситуативность происходящего в городе Сергей Павлович воспринимал как театральное представление, встраиваемое в здесь-бытие. Венецианские каналы подчеркивали условность города, его нереальность: они воспринимались словно нарисованные декорации, разделяющие сцены спектакля. Окруженность города водой и выход из дома в гондолу – создавали театральные эффекты. Само передвижение в гондоле на глазах других людей представляло собой театральную сцену, а плывущий в гондоле невольно превращался в актера. В письме к мачехе Е.В. Дягилевой от 22 августа 1902 года импресарио заметил: «все это не всерьез здесь» (ИРЛИ РАН, Ф. 102, Ед. хр. 84, Л.406-407). Он считал, что в Венеции нельзя жить , а можно только быть , наблюдая за сменой ситуаций и декораций. Город динамичен как сюжетная линия пьесы: он, «подобно спектаклю, постоянно меняется», «маски в Венеции, помаячив перед глазами, сразу истаивают без следа», «сегодня он другой, чем вчера» (Ласкин, 2013, с. 33, 34). Возможно, для великого импресарио Венеция олицетворяла и театральную сцену с декорациями («то ли сказка, то ли капкан» (Манн, 2023, с. 217)), и главного персонажа ( коварную красотку (Манн, 2023, с. 217)). Свою деятельность Сергей Павлович сравнивал с жизнью в Венеции. «От своих жителей город требует примерно того же, что импресарио от своих подопечных»: «старайся не выделяться», «помни, что ты существуешь вместе со всеми» и выступаешь в качестве соавтора, «одного из тех, кто творит красоту» (Ласкин, 2013, с. 33). Как мы считаем, импресарио в виду экзистенциальной значимости венецианского пространства запрограммировал свою смерть в этом городе и, возможно, срежиссировал ее в виде спонтанного перфоманса . Целью его последнего приезда в Венецию был очередной вызов судьбе и страху перед смертью. В судьбоносном дягилевском перфомансе пересеклись основные параметры театрально-художественного жанра: время (август 1929 год), пространство (Венеция, отель «Grand Hotel bes Bains»), сам художник как автор, постановщик и главный герой (Сергей Павлович Дягилев), зрители как участники и наблюдатели (С. Лифарь, Б. Кохно, Мисия Серт, Коко Шанель). Все осуществлялось в реальном месте и времени с участием конкретных людей. Вовлеченность в открытую структуру перфоманса, разыгрывавшегося ситуативно, подразумевало непосредственную свободу в действиях участников, акционизм, интенсивность восприятия, эмоциональность развертывания событий, обнаженную субъективность в (пред)стоянии в здесь-бытии в объятиях страха смерти, выразительную реакцию на происходящее. Участники перфоманса, как и сам Дягилев, не знали, чем закончится их экзистенциально-игровой процесс. Дело в том, что в перфомансе само действие и его концовка непредсказуемы. Но все присутствующие внесли вклад в создание красоты смерти импресарио. Можно назвать несколько причин точного выбора города собственной финализации. Во-первых, в Венеции в 1883 году умер композитор Р. Вагнер. Данное событие произвело неизгладимое впечатление на юного Дягилева, увлеченного его музыкой. Во-вторых, как мы писали, город для импресарио олицетворял смерть и красоту смерти, что делало его привлекательным местом для прекрасного заключительного аккорда жизни. В-третьих, выбор города как финальной точки жизни обнажает определенную театральность натуры: пространство Венеции эффектно и символично.
Свидетельством запрограммированности смерти и даже ее разыгрывания в виде перфоманса служат следующие факты. Уже в 1902 году в Дягилеве окончательно укрепилась идея приехать умирать в Венецию.
В письме к мачехе Е.В. Дягилевой от 22 августа (ровно за 27 лет до кончины – он умер 19 августа 1929 года) Сергей Павлович напишет: «Я убеждаюсь, что окончу дни свои здесь, где некуда торопиться, не надо делать усилий для того, чтобы жить» (ИРЛИ РАН, ф. 102, ед. хр. 84, л.406-407). Возможна, подобная убежденность была связана с интуитивностью, характерной для творческих людей, и дягилевским принципом: умение хотеть приводит к тому, что все остальное идет само по себе (Брезгин, 2016, с.531). Сегодня мы можем констатировать, что в 1929 году импресарио сумел осуществить задуманное. В связи с тем, что мечта Сергея Павловича сбылась, его можно назвать счастливым человеком. Предсказанная цыганкой в юности смерть на воде осуществилась. Как отметил А. Ласкин, «может, только Венеция примиряла Дягилева со смертью» (Ласкин, 2013, с. 38), которую он так боялся, но одновременно и приближал. Смерть Дягилева в Венеции и ее театральность заставляют вспомнить экзистенциальную новеллу Т. Манна «Смерть в Венеции» (1911-1912). В ней перед нами возникает образец невероятного переплетения содержания произведения с реальными событиями. Интерпретация новеллы невольно отсылает к устроенному Дягилевым судьбоносному перфомансу и способствует специфическому выходу места в пространство (Д.Н. Замятин). Саму новеллу Т. Манна можно назвать в качестве склейки или творения, где обнаруживается склеенный ландшафт (Д.Н. Замятин). При чтении произведения происходит ментальная склейка расположения и размещения реальных событий в соответствии с художественными «образами в строгом метагеографическом порядке» (Замятин, 2011). Экзистенциальный модус манновского повествования позволяет найти внутреннюю связь с дягилевской судьбой и последним, трагически-театрализованным эпизодом его жизни, что свидетельствует в пользу философичной поэтичности текста. Сам Т. Манн в своей новелле делает акцент на том, что субъективность эмоций и событий, описываемых в творении, должны быть созвучны другим людям. Судьба художника в новелле оказывается обобщенным описанием судеб творческих людей, демонстрируя интуитивную онтологичность произведения (Яковлева, 2019, с. 606617). Экзистенциальная новелла выступила в качестве сложного устройства , хранящего в себе многообразные коды (Лотман, 1992, с. 132). Т. Манн справедливо подчеркивает, «всякое значительное творение духа, дабы незамедлительно возыметь широкое и сильное воздействие, должно обнаруживать сокровенное сродство,.. едва ли не совпадение личной судьбы своего создателя с судьбами современников» (Манн, 2023, с. 249). Приведем следующие параллели между манновской новеллой и дягилевским судьбоносным перфомансом, что не исключает знание Сергеем Павловичем данного произведения. Главный герой Томаса Манна пятидесятилетний писатель Густав фон Ашенбах похож в своем служении искусству на С.П. Дягилева, которому на момент смерти было пятьдесят семь лет. Всю свою жизнь Густав ежедневно, с невероятным тщанием и «предельной точностью употребления творческой воли», посвятил нещадному расходованию энергии на следование звучанию внутреннего голоса – писательству (Манн, 2023, с. 237).
Обладая чрезмерной обостренностью чувства прекрасного (Т. Манн) и создавая очередное художественное творение, Густав и Сергей Павлович жили только им, кропотливо и методично создавая нечто грандиозное. Сам процесс творчества ради получения грандиозного результата олицетворял для них принцип вопреки . Шедевр создавался «вопреки горю и мучениям, бедности, одиночеству, телесной немочи, порокам, страстям и еще тысячам иных препон и препятствий» (Манн, 2023, с. 249), служащих нагнетанию экзистенциальных страхов. При этом обоим было важно совершенство творения , отточенность всех его составляющих деталей, что вызывало «наслаждение созиданием формы, полнотой и точностью самовыражения» (Манн, 2023, с. 244). Занятие творчеством удовлетворяло потребность мужчин в славе: оба были знамениты. Но путь к признанию был тернист. Ашенбах, как и Дягилев, был «в разладе со своим временем», «попадал впросак, совершал промахи, выставлял себя на посмешище», «не роняя собственного достоинства», одновременно «упивался залежами духа, браконьерствовал в кущах познания, не брезгуя даже посевными всходами, развенчивал тайны, подвергал сомнению талант, предавал самую суть художества» (Манн, 2023, с. 251). Именно перфекционизм в творчестве явил оборотную сторону здесь-бытия – «тягу ко злу, к запретному, к нравственно невозможному», потому что форма двулика: в ней нравственное есть «итог и выражение воспитания и усердия», безнравственное или вненравственное есть «свойство природы» (Манн, 2023, с. 253). Художник обречен на крайности проявлений в своем здесь-бытии. И его трагедия заключается в том, что от своей судьбы он не способен уйти.
Последняя поездка в Венецию сложилась словно по прихоти судьбы . Она позволила повернуть жизнь вспять и «лицезреть милые сердцу места» (Манн, 2023, с. 292). Густава, как и Сергея Павловича, вела к смерти в конкретном пространстве «некая тяга внутри», что «не давало покоя» и поставило «перед мысленным взором» четкую цель – «перенестись в несравненный, сказочный мир» Венеции (Манн, 2023, с. 256-257). Интуитивно ощущая опасность поездки, оказавшейся последней в их жизни, и чувствуя азарт, оба в безотчетном испуге (Т. Манн) подчинились судьбе. Пребывание в Венеции в странном оцепенении позволило быть участником ситуативности здесь-бытия и созерцать происходящее со стороны, превратив обоих одновременно в игроков и зрителей собственного экзистенциального перфоманса. Интуитивное предчувствие смерти и нежелание принять эту мысль относительно себя привело к ощущению «будто все вокруг едва заметно, но неумолимо норовит соскользнуть в нелепицу, грозя обернуться то ли издевкой, то ли подвохом» (Манн, 2023, с. 263). Театральность восприятия происходящего высвечивается на протяжении всей новеллы, в главах которой периодически встречаются отсылки к театру.
Венеция была для Ашенбаха, как и для С.П. Дягилева, местом отдохновения и укрытия от страхов. Как известно, искусство способствовало интенсивному расходу жизненных энергий и наносило «ущерб нервам, вконец измотанных капризами фантазии, приступами раздражения и прихотями любопытства» (Манн, 2023, с. 256), что заставляло совершать побеги. Но в зрелом возрасте к этому у Ашенбаха добавился страх унылого одиночества. Изматывающий и нагнетаемый изнутри страх рождал ответную реакцию личности в виде «тяги к бегству, тоски по новизне и далям, жажду сбросить с себя постылое бремя, забыться» (Манн, 2023, с. 243).
Сергей Павлович Дягилев интуитивно, подобно манновскому герою, почувствовал близость смерти, чему в немалой степени способствовали интуитивность, страхогенность натуры и двойственность понимания венецианского пространства. Как считает Ш. Схейен, уже «во второй половине 1928-го года смерть подошла к нему (к Дягилеву – примеч. автора ) близко» (Схейен, 2020, с. 520). Диагностированные у него в 1921 году сахарный диабет и в 1927 году фурункулез приняли смертельно опасную форму. Фурункулы, вызывающие абсцессы, доставляли колоссальные страдания. Дягилевский страх, связанный с боязнью инфекций, реально воплотился в его здесь-бытии. Импресарио, подверженный из-за болезни смене настроений, стал избегать общение даже с близкими друзьями. Несмотря на запрет врача отказаться от влажного климата Венеции и рекомендацию придерживаться диеты, Сергей Павлович приехал в Венецию, словно желая исполнить мечту и сыграть свой судьбоносный перфоманс.
В этом обнаруживает себя праздничная смерть (О. Мандельштам) импресарио, любившего дарить публике впечатления от театральных постановок. Ничем иным, как театральным жестом в виде перфоманса, нельзя назвать последнюю поездку Дягилева в Венецию. Только Венеция «для него самого делала смерть более приемлемой и осмысленной, придавала характер творческого акта даже конечному распаду» (Схейн, 2020, с. 13). Театральной постановочностью можно охарактеризовать последние дни жизни импресарио. Как отметил Т. Манн, «искусство – это возвышенная степень жизни» и судьбы художника (Манн, 2023, с. 255), что одновременно делает его счастливым и трагически обреченным. В «Grand Hotel bes Bains» на Лидо (в комнате с окнами на Адриатику), как месте, отчетливо связанным со смертью (Н.Е. Меднис), он заканчивал свою жизнь в шуме, среди отдыхающей публики. Подобно герою манновской новеллы, Сергей Павлович, болея сахарным диабетом, позволял себе лакомиться продуктами, запрещенными врачами, и наслаждался венецианскими видами, словно пытаясь вобрать в себя напоследок все связанное с приятным в здесь-бытии. Тяжелобольной импресарио, у которого началось в августе из-за абсцессов заражение крови, призвал к себе в Венецию самых близких ему людей (С. Лифаря, Б. Кохно, Мисию Серт, Коко Шанель). Импресарио то становилось лучше, то он чувствовал себя хуже. Он произносил долгие монологи-воспоминания о своей жизни вперемежку с признаниями о страхах перед одиночеством и смертью (Брезгин, 2016, с. 542), напевал произведения Р. Вагнера и П.И. Чайковского (в том числе Шестую симфонию последнего, написанную незадолго до смерти), делился планами на будущее, но при этом начал говорить о себе в прошедшем времени.
В последние дни своей жизни «Сергей Павлович шел к смерти и в то же время страшно боялся умереть», о чем признавался С. Лифарю (Лифарь, 1994, с. 298). Предчувствуя приближение смерти, он попросил одеть его во фрак, который был для импресарио символом важных событий в жизни. В. Нувель в письме к И. Стравинскому отметил: «смерть его была прекрасна. Он умер в любви и красоте, под ласковой улыбкой тех Богов, которым он всю жизнь и со всей страстью служил и поклонялся» (Схейен, 2020, с. 542).
На последний судьбоносный перфоманс импресарио интуитивно указал И. Бродский, назвав Дягилева гражданином Перми . Бродский поэтично представил перфоманс импресарио, переходящий от звучания к тишине Ничто:
Так смолкают оркестры. Город сродни попытке воздуха удержать ноту от тишины, и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры, плохо освещены.
Только фальцет звезды меж телеграфных линий – там, где глубоким сном спит гражданин Перми.
Но вода аплодирует, и набережная – как иней, осевший на до-ре-ми (Бродский) .
Смерть обратила в Ничто дягилевское здесь-бытие и связанные с ним страхи. Перед уходом в иной мир из его глаз выкатилась слеза. Удивительно, но судьбоносный перфоманс продолжился после смерти великого Дягилева. «Разыгралась чисто русская сцена» (Брезгин, 2016, с. 545). На надгробном памятнике Дягилева высечены слова, написанные им самим на подаренной С. Лифарю в 1926 году записной книжке: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений». В этих словах прочитывается двойственность отношения к городу как месту гения: желание успокоения, гармонии и одновременно порыв к страсти, смятению, тревожности, а значит - к страху, что сопровождало его в здесь-бытии и после него.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С.П. Дягилев относился к числу страхогенных натур. Всеобъемлющий страх был онтологически задан ему и сопровождал в здесь-бытии. Главенствующим страхом его жизни стал страх смерти на воде. Всю жизнь он пытался избежать его, но в качестве места уклонения от страха и одновременно места смерти был избран город на воде. Систематическое пребывание импресарио в Венеции свидетельствует о значимости пространства, что укрупнило символическое значение города, превратив его в место гения - место Сергея Павловича Дягилева.
В понимании импресарио Венеция неоднозначна. Она стала пространством бегства от себя (и своего страха) и возвращения к себе (и к своему страху). Здесь Сергей Павлович (в зависимости от климатических условий и субъективных состояний) то снижал интенсивность собственного страха, сводя его к минимуму, то наоборот нагнетал его. Венеция успокаивала мятущуюся в страхах дягилевскую натуру, становясь источником для новых творческих идей, а значит - тревог и страхов (боязни неосуществления задуманного). В последнем перформансе С.П. Дягилева в Венеции пересеклись время и пространство (как сцена), личность и ее окружение (как главные действующие лица), смерть как экзистенциал человеческого бытия (как содержательный аспект трагедии, ставшей дягилевским экзистенциально-художественным произведением, а для последующих поколений открытым произведением (У. Эко), допускающим множество интерпретаций).
Несмотря на побеги в Венецию импресарио так и не смог справиться со своими страхами. Венеция для него была связана со смертью, смертью красоты, и, отыграв свой судьбоносный перфоманс в городе, он продемонстрировал свою любовь к смерти и приобрел в нем не только смерть, но и бессмертие.
Список литературы Венеция и Дягилевский судьбоносный перфоманс
- Акройд П. Венеция. Прекрасный город. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2012.
- Аристотель. Риторика. URL: http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ritoriki.txt (дата обращения: 3.11.2023).
- Брезгин О. Сергей Дягилев. М.: Молодая гвардия, 2016. 639 с.
- Бродский И. Венецианские строфы URL: https://rustih.ru/iosif-brodskij-venecianskie-strofy-1/ (дата обращения: 3.11.2023).
- Гирс С.П. Рождение и Смерть С. П. Дягилева: мемориальные места Новгородчины и Венеции (по личным впечатлениям). Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2009. Номер 1 (21).
- Замятин Д.Н. Гений и место: в поисках сокровенных пространств. Литература Урала: история и современность. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2011. С. 37-52.
- ИРЛИ РАН. Ф. 102. Ед. хр. 79.
- ИРЛИ РАН. Ф. 102. Ед. хр. 84.
- ИРЛИ РАН. Ф. 102. Ед. хр. 86.
- Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Академический Проект, 2014. 154 с.
- Ласкин А. Параллельное кино: Повесть-воспоминание. Нива. 2013. Номер 2. С. 10-61.
- Лифарь С. С. Страдные годы с Дягилевым. Киев: Муза, 1994. С. 151-304.
- Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста. Избранные статьи: в 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 129-132.
- Манн Т. Письма. М.: Наука, 1975. 463 с.
- Манн Т. Смерть в Венеции. Смерть в Венеции: сборник. М.: АСТ, 2023. С. 237-348.
- Стравинский И. Хроника моей жизни. Хроника. Поэтика. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 10-168.
- Схейен Ш. Сергей Дягилев. Русские сезоны навсегда. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. 608 с.
- Яковлева Е.Л. Импресарио скандалов и впечатлений: вклад Сергея Дягилева в развитие русского театрального искусства. Индустрии впечатлений. Технологии социокультурных исследований. 2022. Номер 1(1). С. 76-97.
- Яковлева Е.Л. Интуитивная онтологичность поэтического слова. Обсерватория культуры. 2019. Т. 16. Номер 6. С. 606-617.
- Яковлева Е.Л. Философское прочтение Книги непокоя Фернандо Пессоа через призму страха. Вестник Казанского университета культуры. 2019. Номер 1. С. 73-82.
- Mann T. Lebensabri. Die Neue Rundschau, 6. Heft, Juni 1930. Leipzig. 16 Oktober 2008. Pp. 732-769.