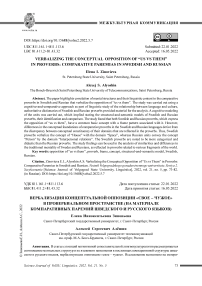Вербализация концептуальной оппозиции «свое - чужое» в провербиальном пространстве (на материале компаративных паремий шведского и русского языков)
Автор: Зиновьева Елена Иннокентьевна, Алшин Алексей Сергеевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций когнитивной сопоставительной лингвокультурологии рассматривается соотношение ментальных структур и их языкового наполнения в пословицах компаративной структуры шведского и русского языков, вербализующих оппозицию «свое - чужое». Исследование выполнено на материале данных авторитетных словарей шведских и русских паремий. В ходе анализа определены структурно-семантические модели пословиц в двух языках, проведено когнитивное моделирование семантики паремий. В результате сопоставительного анализа пословиц установлено, что в шведских и русских паремиях, выражающих оппозицию «свое - чужое», возможно выделение базового концепта и его фреймовой структуры. Различия в концептуальных основаниях компаративных пословиц шведского и русского языков обусловлены несовпадением организующих их доменов и концептов. Шведские пословицы вербализуют фрейм «Дом», доменом для которого является «Пространство», а русские - фрейм «Человек» с доменом «Межличностные отношения». Показано, что пословицы шведского языка более категоричны и дидактичны, нежели пословицы русского языка. Полученные в ходе проведенного анализа результаты могут быть использованы при анализе сходств и различий в традиционном менталитете шведов и русских, нашедшем отражение в разных фрагментах провербиального пространства.
Оппозиция «свое - чужое», пословица, фрейм, концепт, структурно-семантическая модель, шведский язык, русский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149141045
IDR: 149141045 | УДК: 811.161.1+811.113.6 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.5.7
Текст научной статьи Вербализация концептуальной оппозиции «свое - чужое» в провербиальном пространстве (на материале компаративных паремий шведского и русского языков)
DOI:
В настоящее время паремиология представляет собой самостоятельный раздел языкознания, внутри которого сложились различные направления исследований. Наибольший интерес ученых вызывают пословицы, что определяется спецификой этих единиц: их фра-зовостью, двуплановостью, моделируемостью, образностью, дидактичностью, отражением типовых ситуаций и др. Пословицы традиционно рассматриваются в жанровом аспекте, классифицируются и анализируются в соответствии с тематико-идеографическим принципом, в рамках историко-этимологического подхода, дискурсивного анализа, перево-доведения. Сегодня пословицы изучаются с применением новых подходов и методов, в частности в экспериментальных исследованиях они используются как диагностический инструмент при описании тезауруса, психики индивида [Потапова, Щукина 2020], исследуются в русле новых направлений в паремиог-рафии, например осуществляется аксиологически ориентированное сопоставительное лексикографическое описание пословичных единиц [Мокиенко, Никитина, 2021], определяется фактор ценности в семантической структуре паремий применительно к задаче когнитивно-прагматического моделирования семантики пословиц [Семененко, 2020]. В последнее время интерес ученых вызывает коммуникативный потенциал пословиц, возможности их применения говорящим в качестве аргумента или контраргумента в конкретной ситуации [Джелалова, 2019]. Обзор основных векторов изучения паремий в лингвистике представлен в статье М.А. Бредиса, М.С. Ди-могло и О.В. Ломакиной «Паремии в современной лингвистике: подходы к изучению, текстообразующий и лингвокультурологический потенциал». В ней исследователи выделяют в качестве интегративных сравнительно-сопоставительный и лингвокультурологический аспекты описания паремий [Бредис, Димогло, Ломакина, 2020, с. 270]. На наш взгляд, следует уточнить, что интегративным лингвокультурологический аспект становится в силу того, что реализуется посредством когнитивного анализа единиц, который лежит в основе любого лингвокультурологического исследования. Сравнительно-сопоставительный аспект изучения пословиц приобретает интегративный характер и за счет того, что реализуется «с опорой на аксиологическую теорию, теорию структурно-семантического моделирования, а также теорию культурно-языкового трансфера» [Иванов, Ломакина, Нелюбова, 2021, с. 234].
Как справедливо отмечают исследователи, разрабатывающие методики определения национальной специфичности пословичного фонда, «при дифференциации общих с другими языками и специфических единиц пословичного фонда языка наиболее объективным является синхронический анализ на основе структурно-семантического моделирования пословиц» [Иванов, Ломакина, Петрушевская, 2021, с. 1026].
В данной статье объектом изучения служат пословицы компаративной структуры шведского и русского языков, выражающие противопоставление «свое – чужое». Целью исследования стало определение соотношения ментальных структур и их языкового выражения в пословицах компаративной структуры шведского и русского языков, вербализующих оппозицию «свое – чужое», для определения сходств и различий в этом фрагменте провербиального пространства двух неблизкородственных языков.
Материал и методы
Термины, определяющие статус противопоставления «свое – чужое», в лингвистической литературе варьируются. В работах последних лет, посвященных паремиологии и, шире, фразеологии, используются термины «категория», «оппозиция», «парадигма», «концепт». Так, в монографии М.Л. Лаптевой категория «Свое / Чужое» рассматривается как когнитивно-дискурсивный механизм, автор устанавливает взаимодействие этнокультурных и инокультурных основ фразеологической семантики. Исследуются фраземы, включающие идиомы, междометные единицы, составные термины, перифразы, паремии и афоризмы [Лаптева, 2012]. И.В. Захаренко описывает фразеологизмы русского языка, выражающие архетипическую оппозицию «свой – чужой» в пространственном коде культуры [Захаренко, 2013]. Анализ парадигмы «свой – чужой» сквозь призму фразеологизмов и паремий с компонентом-этнонимом четырех славянских языков проведен в работе И.В. Калиты [2017]. Объектом исследования Г.И. Иси-ной и М.А. Сергеевой стало вербальное выражение концептов «свое – чужое жизненное пространство» в паремиологических единицах на материале русского и английского языков [Исина, Сергеева, 2016].
Представляется, что для данного исследования, проводимого в русле когнитивной сопоставительной лингвокультурологии, целесообразно использовать термин «концептуальная оппозиция».
Под компаративными пословицами, или пословицами компаративной структуры, понимаются единицы, эксплицитно или имплицит- но содержащие сравнение. Компарация как когнитивная операция универсальна, но в силу особенностей менталитета народа – носителя языка она может быть выражена различными способами.
Материалом для исследования послужили компаративные пословицы шведского языка (19 единиц) и русского языка (35 единиц), выражающие оппозицию «свое – чужое», отобранные методом сплошной выборки из следующих словарей: «3530 ordspråk och talesätt» (Holm, 1984); «Svenska ordspråk» (Ström, 1929); «Пословицы русского народа» (Даль, 1984); «Большой словарь русских пословиц» (Моки-енко, Никитина, Николаева, 2010).
В ходе работы применялись общенаучные методы наблюдения, анализа и синтеза, типологизации, концептуализации. Кроме того, использовалась комбинация традиционного описательно-аналитического метода и метода когнитивного моделирования области па-ремиологической семантики, а также сопоставительный метод и метод лингвокультурологического анализа.
Методика исследования компаративных пословиц включает несколько этапов:
– определение структурно-семантических моделей отобранных пословиц в шведском и русском языках;
– когнитивное моделирование семантики пословиц с выявлением общего организующего концепта, реализующего его фрейма и слотов этого фрейма в шведском и русском языках;
– выделение общих и специфичных этнокультурных черт в анализируемом фрагменте провербиального пространства шведского и русского языков.
Прежде чем переходить к непосредственному анализу языковых единиц, уточним содержание используемых в работе терминов. Вслед за Е.Г. Беляевской мы полагаем, что термин «провербиальное пространство» очерчивает область, в которой будет проводиться исследование, «впоследствии может оказаться, что эта область может быть структурирована как фрейм или же она может иметь какую-либо другую концептуальную структуру» [Беляевская, 2015, с. 16]. Понятие концепта «отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе мышления и которые отражают содержание опы- та и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких “квантов” знания» [Кубрякова и др., 1996, с. 90]. Вслед за Ч. Филмором под «фреймом» мы понимаем структуру знаний, «составляющую необходимое предварительное условие нашей способности к пониманию связанных между собой слов» [Fillmore, 1985, p. 224]. Понятия «концепт» и «фрейм» тесно связаны, но между ними есть и существенные различия, заключающиеся во внутренней структуре этих двух ментальных конструктов: «концепт конструируется “от языка”, а фрейм конструируется “от конкретной действительности”» [Беляевская, 2015, с. 15– 16]. Важным для нашего исследования термином является «домен». У. Крофт и А. Круз определяют его как «семантическую структуру, которая функционирует в качестве основы (фоновое знание, “поддерживающее” концепт и без которого концепт не может быть понят) для профилирования хотя бы одного концепта, обыкновенно нескольких» [Croft, Cruse, 2005, p.15].
Результаты и обсуждение
Пословицы шведского языка
Из общего корпуса пословиц, вербализующих оппозицию «свое – чужое», зафиксированных в словарях шведских паремий, было выделено 19 единиц компаративной структуры. Они реализуют 5 структурно-семантических моделей.
-
1. Компаративность выражена наречием или прилагательным в формах превосходной степени (9 единиц): Öster och väster, hemma är bäst (Восток или запад, дома лучше всего 1); Hemma är vilan ljuvast (Дома отдых приятнее всего); Hemma är bäst att sova, om man så ligger i stallkammarn (Спать лучше всего дома, даже если лежишь в конюшне); Borta är bra, men hemma är bäst, om gumman är snäll (Вне дома хорошо, но дома лучше всего, если жена добрая); När allt är prövat, är hemmet bäst (Когда все попробовал, дома лучше всего); Egen eld kokar bäst (Свой огонь варит лучше всего); Bäst bo under sitt eget tak (Лучше всего жить под своей крышей); Egen ull värmer bäst (Своя шерсть греет луч-
- ше всего); Bäst trampa egen tröskel (Лучше всего топтать свой порог).
-
2. Компаративность выражена наречием bra в сравнительной степени или конструкцией bättre... än... (лучше... чем...). Данная модель лежит в основе 5 пословичных единиц: Alltid bättre gräs på andra sidan stängslet (Трава всегда лучше по другую сторону забора); Bättre hemma med liten lön än borta med stor (Лучше дома с маленькой зарплатой, чем вне дома с большой); Bättre hemma med en mager höna än borta med en fet gås (Лучше дома с худой курицей, чем вне дома с жирным гусем); Vår rök är bättre än grannens eld (Наш дым лучше соседского огня); Bättre hemlängtan än hemleda (Лучше стремиться домой, чем из дома).
-
3. Компаративность выражена прилагательным в сравнительной степени (3 единицы): Hemma är korna större än oxarna (Дома коровы больше быков); Grannens ök är alltid starkare (Соседский бык всегда сильнее); Annans hustru är alltid vackrare (Чужая жена всегда красивее).
-
4. Компаративность выражена сравнительным союзом (1 единица): Hemma smakar sill som lax (Дома селедка имеет вкус лосося).
-
5. Компаративность выражена имплицитно (1 единица): Egen härd är guld värd (Свой очаг золота стоит).
Основным концептом, организующим анализируемые шведские пословицы, является концепт «Дом». Его можно структурировать в виде фрейма, концептуальным доменом для которого является «Пространство».
В шведских паремиях эксплицируется противопоставление «своего» и «чужого» пространств. «Свое» пространство имеет лексический маркер hemma (дома), «чужое» – лексический маркер borta (вне дома).
Прототипический фрейм «Дом», отражающий традиционный шведский крестьянский быт, формируют следующие слоты:
-
– «части дома» (лексические маркеры – партитивы ett tak (крыша), en tröskel (порог)): Bäst bo under sitt eget tak (Лучше всего жить под своей крышей); Bäst trampa egen tröskel (Лучше всего топтать свой порог);
– «постройки на примыкающей к дому дворовой территории» (лексический маркер – en stallkammare (конюшня)): Hemma är bäst
att sova, om man så ligger i stallkammarn (Спать лучше всего дома, даже если лежишь в конюшне);
– «домашний очаг» (лексические маркеры – en eld , en rök (огонь, дым)): Egen eld kokar bäst (Свой огонь варит лучше всего); Vår rök är bättre än grannens eld (Наш дым лучше соседского огня); Egen härd är guld värd (Свой очаг золота стоит);
– «продукты питания» (лексические маркеры – en sill (селедка), en lax (лосось), en höna (курица), en gås (гусь)): Bättre hemma med en mager höna än borta med en fet gås (Лучше дома с худой курицей, чем вне дома с жирным гусем); Hemma smakar sill som lax (Дома селедка имеет вкус лосося);
– «осуществляемые действия, состояния» (лексические маркеры – att vila , att sova (отдыхать , спать)): Hemma är vilan ljuvast (Дома отдых приятнее всего); Hemma är bäst att sova, om man så ligger i stallkammarn (Спать лучше всего дома, даже если лежишь в конюшне);
– «совместно проживающие родственники» (лексический маркер – en gumma (дословно старушка в значении ‘жена’)): Borta är bra, men hemma är bäst, om gumman är snäll (Вне дома хорошо, но дома лучше всего, если жена добрая).
Ближайшее к своему (домашнему) пространству – пространство соседское, достаточно хорошо известное, повседневно наблюдаемое, а потому служащее объектом для сопоставления со своим. Шведские паремии, противопоставляющие свой дом и обиход и соседские, амбивалентны с точки зрения выражаемой оценки. С одной стороны, предпочтительнее свое: Egen eld kokar bäst (Свой огонь варит лучше всего); Egen ull värmer bäst (Своя шерсть греет лучше всего); Vår rök är bättre än grannens eld (Наш дым лучше соседского огня). С другой стороны, предпочтение отдается соседскому: Grannens ök är alltid starkare (Соседский бык всегда сильнее); Alltid bättre gräs på andra sidan stängslet (Трава всегда лучше по другую сторону забора); Annans hustru är alltid vackrare (Чужая жена всегда красивее).
Предпочтительность чужого в пословицах разных языков объясняется, по справедливому мнению Е.И. Тимошенко, завистью че- ловека. Пресуппозиция же (фоновые знания), а также подтекст таких выражений заключаются «в понимании носителями языка чувства зависти как такого, которое объясняется твердым убеждением каждого (или, по крайней мере, большинства) в том, что свое должно быть самым хорошим, лучшим... В подобных выражениях как раз и проявляется беспокойство по поводу того, что у другого может быть лучше, чего, по определению, быть не должно» [Тимошенко, 2010, с. 191].
В исследуемом материале представлены компаративные пословицы, отражающие расширение пространства своего дома до восприятия его как включающего место работы: Bättre hemma med liten lön än borta med stor (Лучше дома с маленькой зарплатой, чем вне дома с большой).
Лексический маркер Hemma «дома» может также иметь самое широкое значение – своя страна, Родина. Об этом, например, свидетельствует заимствованная из английского языка пословица: Öster och väster, hemma är bäst (Восток или запад, дома лучше всего). Ср. также: När allt är prövat, är hemmet bäst (Когда все попробовал, дома лучше всего); Bättre hemlängtan än hemleda (Лучше стремиться домой, чем из дома); Hemma är korna större än oxarna (Дома коровы больше быков). Исследователь шведского фольклора Ф. Стрём называет последнюю пословицу ироничной и указывает на то, что шведы склонны чрезмерно хвастаться, превознося «свое», когда оказываются за рубежом (Ström, 1929, S. 44). Представляется, однако, что данная единица свидетельствует о переоценке ценностей, происходящей в сознании шведов, когда на объективную материальную иерархию ценностей (бык больше и сильнее коровы, дает больше мяса) накладывается оценка по шкале «свое – чужое» и полностью меняет ценностный вектор.
Пословицы русского языка
Из корпуса русских пословиц, вербализующих оппозицию «свое – чужое», зафиксированных в используемых словарях, было выделено 36 единиц компаративной структуры. Они построены по 6 структурно-семантическим моделям.
-
1. Компаративность выражена противопоставлением с использованием противительных союзов а или да (16 единиц): Род да племя близки, а свой рот ближе ; В друге стрела как во пне, а в себе как в сердце ; Чужую печаль и с хлебом съешь, а своя и с калачом в горло не идет ; Чужую беду не посо-ля уплету, а свою и посахарив не проглочу ; Как чужую беду – я водой разведу, а на свою на беду – сижу да гляжу ; Чужую беду руками ( бобами, на бобах ) разведу, а к своей и ума не приложу ; Чужой дурак – веселье, а свой – бесчестье ; Чужого стыдно, а своего жаль ; Ешь чужие пироги, а свои ( свой хлеб ) вперед береги ; Люблю тебя, да не как себя и др.
-
2. Компаративность выражена противопоставлением без союза (3 единицы): Чужим уродом коришь, над своим казнишься ; Над людским дураком не нахаешься, над своим не накаешься ; Своего коня – шлепком, чужого коня – кругляком .
-
3. Компаративность выражена прилагательным в форме сравнительной степени (11 единиц): Своя кожа рубахи дороже ; Своя кожа чужой рожи дороже ; Чужой и хлеб слаще калача ; Всякому мужу своя жена милее ; Всяк сам себе дороже ; Всякому свое дороже ; Свой хлеб сытнее ; Малый вертеп мой лучше Синайския горы ; Всяк сам себе ближе ; Собинка всего дороже ; Свой уголок всего краше .
-
4. Компаративность выражена наречием в сравнительной степени (1 единица): Своя рубашка к телу ближе.
-
5. Компаративность выражена предложением с местоименно-соотносительной конструкцией (3 единицы): Что у тебя болит, то у друга не свербит ; Что к огню ближе, то жарче ; Что к сердцу ближе, то больнее .
-
6. Компаративность выражена комбинированным способом – с использованием противительного союза а и прилагательного в сравнительной степени (2 единицы): Княгине княжна, кошке котя, а Катерине свое дитя ( милее ); Твое хоть дороже, а свое мне милее .
Русские компаративные паремии, вербализующие оппозицию «свой – чужой», организует концепт «Человек». В центре внимания носителей русской лингвокультуры находится индивид, сопоставляющий себя с другими людьми, концептуальным доменом выступают «Межличностные отношения». Концепт «Человек» представляет собой фрейм, включающий следующие слоты:
– «сам индивид, от лица которого строится высказывание»: Всяк сам себе дороже ; Всяк сам себе ближе . Лексическими маркерами говорящего индивида являются местоимения всяк , всякий , сам себе. Паремии утверждают, что каждому человеку ближе и дороже он сам. Индивид и другой человек, с которым он сравнивает себя, могут метонимически обозначаться соматизмами: Своя кожа чужой рожи дороже ;
– «другие люди»: Люблю тебя, да не как себя . В ближайшем окружении индивида выделяется человек, номинируемый местоимением ты , ближайшим к «я» говорящего, но этот ближний все же не так дорог говорящему, как он сам. Подобным образом характеризуются и отношения с другом, чьи страдания и переживания не воспринимаются так остро, как собственные: В друге стрела как во пне, а в себе как в сердце ; Что у тебя болит, то у друга не свербит . Индивид в русских пословицах противопоставляет, сравнивая, себя и родственников ( род да племя ), при этом индивид также метонимически обозначается соматизмом: Род да племя близки, а свой рот ближе . Однако когда речь идет о сравнении своих и чужих родных, то свои оказываются ближе: Всякому мужу своя жена милее ; Княгине княжна, кошке котя, а Катерине свое дитя ( милее );
– «чувства, эмоции индивида»: Чужую печаль и с хлебом съешь, а своя и с калачом в горло не идет; Чужую беду не посо-ля уплету, а свою и посахарив не проглочу; Как чужую беду – я водой разведу, а на свою на беду – сижу да гляжу; Чужую беду руками (бобами, на бобах) разведу, а к своей и ума не приложу; Людской стыд (позор) – смех, а свой – смерть. Свои чувства и эмоции также стоят на первом месте в сравнении с чувствами, переживаниями, эмоциями других людей. При этом печаль и беда метафорически уподобляются блюду, беда имеет определенную консистенцию, ее можно «развести». Стыд (позор) других вызывает смех, а свой по интенсивности воз- действия на субъекта речи уподобляется смерти. Недостатки, источник негативных эмоций вызывают разные отношения внутри своего круга, сообщества, семьи и вне таковых: Чужой дурак – веселье, а свой – бесчестье; Чужого стыдно, а своего жаль; Чужим уродом коришь, над своим казнишься; Над людским дураком не наха-ешься, над своим не накаешься;
– «имущество, собственность индивида»: Собинка всего дороже. Свою собственность следует беречь, в то время как имущество другого такого отношения не заслуживает: Чужую курочку щипли, а свою за крылышко держи ; Чужую курицу как хошь дери, а свою за хохол держи! ; Ешь чужие пироги, а свои (свой хлеб) вперед береги ; Своего коня – шлепком, чужого коня – кругляком . Собственность индивида, его имущество предпочтительнее перед имуществом других. Однако жизнь индивида дороже имущества: Своя кожа рубахи дороже .
«Свое» пространство маркируется в незначительном количестве русских паремий, в отличие от шведских: Свой уголок всего краше ; Малый вертеп мой лучше Синайс-кия горы.
Анализируемым русским компаративным паремиям, в отличие от шведских единиц, свойственно также нерасчлененное сравнение-противопоставление своего и чужого. При этом русские паремии так же оценочно амбивалентны, как и шведские. С одной стороны, свое лучше (паремии с этой установкой преобладают в исследуемом материале, как и в шведском): Всякому свое дороже ; Твое хоть дороже, а свое мне милее ; Чужое и хорошее постыло; а свое и худое, да мило ; Чужое непрочно и большое, а свое малое, да правое ; Свой хлеб сытнее . С другой стороны, чужое представляется более привлекательным: Чужой и хлеб слаще калача.
В русских паремиях обнаруживается вербализация точки зрения «других» относительно того, что говорящий считает своим. Эмпатия говорящего при этом на стороне «своего». Объектом сравнения в данном случае является обобщенный индивид, имеющий имя собственное – Семён : Людской Семён как лук зелён, а наш Семён из грязи свалён . В качестве лексических маркеров «своего
Семена» и «чужого Семена» выступают лексемы людской и наш .
В русских, как и в шведских, паремиях отражается переоценка ценностей: то, что объективно оценивается как хорошее (красивое, сладкое, сытное и т. п.), подвергается оценке по шкале «свое – чужое», при этом «свое», хотя и проигрывает объективно (чужое больше по размеру, лучше, дороже), оказывается предпочтительнее.
Заключение
В результате проведенного анализа можно сделать некоторые выводы.
В исследованных пословицах компаративной структуры шведского языка преобладают единицы, в которых сравнение выражено наречием bra (хорошо) в формах превосходной или сравнительной степени: bäst (лучше всего) или bättre (лучше). Выделяется частотное употребление конструкции « bättre... än... » (лучше... чем...). Компаративные пословицы русского языка в подавляющем большинстве строятся на противопоставлении (с союзной и бессоюзной связью). Шведские паремии, в сравнении с русскими, более категоричны, отличаются большей дидактичнос-тью и четкостью выраженния оценочности за счет использования конструкции bättre... än... (лучше... чем...).
В компаративных пословицах шведского и русского языков при наличии общей концептуальной оппозиции «свое – чужое» обнаруживаются различия в организующих этот фрагмент провербиального пространства концептах и, соответственно, фреймах. Исследованные шведские компаративные паремии организованы фреймом «Дом», структура которого определяется пространственным противопоставлением «дом – вне дома». Русские паремии компаративной структуры представляют фрейм «Человек», его структура организуется связями, выстраивающими межличностные отношения, которые, в свою очередь, включают сравнение с другими людьми (родственниками, друзьями), имуществом других индивидов, сравнение собственных чувств и отношения к переживаниям и аналогичных эмоций других людей. В оппозиции «свое – чужое» положительно маркированным в про- вербиальном пространстве обоих языков оказывается «свое», при кажущейся иногда большей привлекательности чужого. В проанализированных шведских и русских паремиях выражена переоценка общепринятых ценностей в пользу «своего».
Различаются образы, вербализуемые паремиями шведского и русского языков. Несмотря на то что в пословицах обоих языков называются хозяйственно-бытовые реалии, в шведских паремиях употреблены такие культурно обусловленные слова-реалии, как en sill (селедка) и en lax (лосось), а в русских, соответственно, – хлеб и калач .
Полученные в ходе проведенного анализа результаты могут быть использованы в дальнейшем при формировании выводов о сходстве и различиях в традиционном менталитете шведов и русских, нашедшем отражение в разных фрагментах провербиального пространства.
Список литературы Вербализация концептуальной оппозиции «свое - чужое» в провербиальном пространстве (на материале компаративных паремий шведского и русского языков)
- Беляевская Е. Г., 2015. Фрейм, концепт, концептуальная метафора - синонимы? (О соотношении и взаимодействии методов когнитивной лингвистики) // Вестник МГЛУ Вып. 22 (733). С. 9-20.
- Бредис М. А., Димогло М. С., Ломакина О. В., 2020. Паремии в современной лингвистике: подходы к изучению, текстообразующий и лингво-культурологический потенциал // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 11, № 2. С. 265-284. DOI: 10.22363/2313-22992020-11-2-265-284
- Джелалова Л. А., 2019. Модель «Значение ^ Применение» в изучении русских пословиц // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 18, № 2. С. 94-104. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu2.2019.2.9
- Захаренко И. В., 2013. Архетипическая оппозиция «свой - чужой» в пространственном коде культуры // Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. М. : МАКС Пресс. Вып. 46. С. 15-31.
- Иванов Е. Е., Ломакина О. В., Нелюбова Н. Ю., 2021. Семантический анализ тувинских пословиц: модели, образы, понятия (на европейском паремиологическом фоне) // Новые исследования Тувы. № 3. С. 232-248. DOI: https:// www.doi.org/10.25178Mt.202L3.17
- Иванов Е. Е., Ломакина О. В., Петрушевская Ю. А., 2021. Национальная специфичность пословичного фонда: основные понятия и методика выявления // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т.12, № 4. С. 996-1035. DOI: 10.22363/2313-2299-2021-124-996-1035
- Исина Г. И., Сергеева М. А., 2016. Вербальное выражение концептов «свое - чужое жизненное пространство» в паремиологических единицах (на примере русского и английского языков) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 11. С. 158-160.
- Калита И. В., 2017. «Свой» - «Чужой» в координатах фразеологических стереотипов // Международный журнал исследований культуры. №2 (27). С. 85-97.
- Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г., 1996. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Изд-во Моск. ун-та. 245 с.
- Лаптева М. Л., 2012. «Свое» и «Чужое» в когнитивно-дискурсивном пространстве русской фраземики : монография. Астрахань: Астрах. ун-т. 213 с.
- Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., 2021. Восточнославянские параллели и уникалии в трехъязычном аксиологическом словаре пословиц // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 20, № 4. С. 126-136. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu2.2021.4.10
- Потапова Н. А., Щукина Д. А., 2020. Русские паремии и механизмы человеческого мышления (выражение обобщенного значения) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 19, № 4. С. 109-119. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu2.2020.4.10
- Семененко Н. Н., 2020. Аксиология паремий в фокусе проблемы когнитивно-дискурсивного моделирования семантики русских пословиц // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т.11, № 2. С. 213-232. DOI: 10.22363/2313-2299-2020-11-2-213-232
- Тимошенко Е. И., 2010. Явление амбивалентной оценки в русских и белорусских пословицах о своем и чужом // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 2 (59). С. 189-193.
- Croft W., Cruse A., 2005. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press. 356 p.
- Fillmore Ch. J., 1985. Frames and Semantics of Understanding // Quaderni di semantica. Vol. 6, no. 2. P. 222-254.
- Даль В. И. Пословицы русского народа. В 2 т. Т. 2.
- М. : Худож. лит., 1984. 399 с.
- Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К. Большой словарь русских пословиц. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. 1024 с.
- Holm P. 3530 ordspräk och talesätt. Stockholm : Bonnier fakta, 1984. 260 s.
- Ström F. Svenska ordspräk. Stockholm : Bokförlaget Prisma Stockholm, 1929. 396 s.