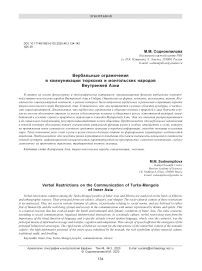Вербальные ограничения в коммуникации тюркских и монгольских народов Внутренней Азии
Автор: Содномпилова М.М.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе фольклорных и этнографических материалов проанализирован феномен вербальных ограничений у тюрко-монгольских народов Внутренней Азии и Сибири. Определены их формы: молчание, иносказание, шепот. Восстановлен социокультурный контекст, в рамках которого были актуальны вербальные ограничения в традиции народов тюрко-монгольского мира Внутренней Азии. Установлено, что они проявляются в разных областях культуры, в частности соционормативной. Доказывается, что вербальные ограничения в общении человека с природой в лице божеств и духов во многом обоснованы страхом за жизнь и благополучие человека и общества в целом, естественной реакцией, выработанной в условиях сурового природного окружения и климата Внутренней Азии. Эти же опасения распространяются и на социальные коммуникации, регулируя взаимодействие членов общества. Предполагается, что вербальные ограничения в кочевой культуре обоснованы также значимостью ритуальной функции языка и особым отношением к слову, которое на протяжении веков оставалось основным средством хранения и передачи информации, способом познания и освоения мира. Такое понимание роли слова и речи в целом оказало большое влияние на формирование характерных особенностей поведения. Предполагается, что жесткие рамки нормативного поведения обусловили значимость неязыкового контекста кочевой культуры: информационной насыщенностью характеризуется все пространство, освоенное кочевниками, глубоко символичны их предметное окружение, традиционный костюм, жилище.
Внутренняя азия, тюрко-монгольские народы, коммуникация, молчание
Короткий адрес: https://sciup.org/145146009
IDR: 145146009 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.134-142
Текст научной статьи Вербальные ограничения в коммуникации тюркских и монгольских народов Внутренней Азии
Вербальное ограничение, в основном понимаемое как молчание, – один из важнейших феноменов общечеловеческой культуры, компонент коммуникации, который все больше привлекает внимание исследователей. О многогранности этого феномена и невозможности прояснить его социокультурную семантику с точки зрения узкоспециализированной отрасли гуманитарного знания писал К.А. Богданов [1997]. Применительно к конкретным обществам и культурам вербальные ограничения рассматриваются основоположником «культурной грамматики» Э. Холлом, который написал ряд работ на эту тему [Hall, 1982; Hall E.T., Hall M.R., 1990]. Он разделяет культуры на низко- и высококонтекстные. В последних значительная часть информации определена неязыковым контекстом – традицией, иерархией, статусом собеседников – и лишь небольшая представлена в словах. Высококонтекстные культуры характеризуются плотностью социальных связей, при которых статус и репутация распространяются на все сферы жизни. Они присущи многим народам Азии, прежде всего Китая и Японии.
Как высококонтекстную правомерно характеризовать и культуру тюрко-монгольских народов Внутренней Азии*, для которых огромное значение в информационном пространстве имеют невербальные тексты. В среде кочевников, заселивших обширные территории региона, значительная часть которых неблагоприятна для жизни, сформировалась особая вербальная культура, «экономная» на слова. Представителей традиционного тюрко-монгольского кочевого общества нельзя назвать эмоциональными. Открытое проявление радости, гнева, привязанности и особенно чувства любви вне узкого семейного круга порицалось обществом. Приоритет молчаливого поведения просматривается в этикете, который строго регламентировал правила поведения в обществе для мужчин, женщин и особенно детей, дублировался обычаями и обрядами, запретами и приметами.
Эмоционально-чувственная сфера традиционного кочевого общества не относится к числу проблем, вызывавших интерес у исследователей, что, возможно, обусловлено сложностью включения этой проблематики в выработанную советской этнографией систему разделения культуры на духовную и материальную. С появлением новых подходов к изучению культуры, расширением понятийного аппарата особенности поведения становятся неотъемлемой частью исследований национальных менталитета, сознания, характера. В XXI в. в мировой антропологии актуализировалось изучение проблемы эмоций и пространства. В частности, исследователей интересует, как пространство влияет на возникновение тех или иных эмоций, как ограничивает их [Dundon, Hemer, 2016]. Ранее данную проблему обозначил Йи-Фу Туан, писавший о топо-фильных и топофобных пространствах [Tuan, 1974]. Эти исследования и стали в определенной степени ориентиром для настоящей работы.
Анализ менталитета и национального характера не является целью данной статьи. Внимание фокусируется на факторах, сформировавших образ немногословного, скрытного номада Внутренней Азии – монгола, бурята, хакаса, ойрата, тувинца, – известный нам по работам исследователей, миссионеров XIX–ХХ вв. Многих такие черты характера раздражали и казались проявлением глупости, упрямства, хитрости либо объяснялись детской наивностью [Радлов, 1989, с. 214; Осокин, 1906, с. 222; Термен, 1912, с. 111]. Редким исследователям, «включившимся» в культуру кочевников, удалось глубже узнать и понять их особенности поведения и характера [Серошевский, 1993; Шинкарев, 1981]. Скрытность и немногословие «дожили» до наших дней и вызывают интерес у специалистов в области психологии [Семке, Богомаз, Бохан, 2012]. Как и почему формировался такой скупой на проявление эмоций и чувств душевный мир кочевников? На наш взгляд, прояснить этот вопрос могут источники разного типа, аккумулированные в течение многих сотен лет в среде тюрко-монгольских народов исследуемого региона. Они содержат множество сведений о «культуре молчания», условиях ее формирования. Источниками данного исследования являются описания обрядов жизненного цикла и промысловой деятельности, путевые заметки членов экспедиций в центральные районы Азии, малые жанры тюркомонгольского фольклора, материалы личного фонда П.П. Баторова в Центре восточных рукописей и ксилографов (ЦВРК) ИМБТ СО РАН. Хронологические рамки исследования XIX – первая половина XX в., что обосновано наличием историографической базы по этому периоду. Они довольно условны, поскольку смысл и содержание обрядов, разных жанров фольклора отражают комплекс древних идеологических представлений, слабо поддающихся трансформации.
Вербальные ограничения, создающие впечатление о немногословности кочевников, выражены в разных сферах культуры, в многочисленных запретах, приметах, наставлениях, порицаниях. Это вызывает необходимость упорядочивания такого большого массива материалов. Целью данной работы является восстановление социокультурного контекста, в рамках которого были актуальны вербальные ограничения у народов тюрко-монгольского мира Внутренней Азии. Ее достижению будет способствовать интерпретация культурных феноменов. Упорядочивание имеющихся материалов с применением сравнительного и сопоставительного методов исследования позволит выявить наиболее часто возникающие ситуации, которым сопутствуют вербальные ограничения; установить единство происхождения на первый взгляд разных обрядов, традиций. Большой массив материалов не позволяет подробно рассмотреть все ситуации проявления вербальных ограничений, в связи с чем остановимся только на наиболее распространенных и актуальных.
Вербальные ограничения, связанные с охотой
Наглядно проявляются вербальные ограничения в одном из архаичных хозяйственных занятий кочевников – охоте. Несмотря на то что доминирующую роль в их хозяйстве играло скотоводство, охотничий промысел имел важное значение, особенно в лесостепной и таежной природных зонах. Архаичность этого занятия определила сохранение в нем наиболее древнего пласта традиционной культуры и, соответственно, некоторых архаичных форм идеологии [Жамбалова, 1991, с. 5]. Вероятно, и ряд вербальных ограничений, характерных для комплекса традиционной охоты, восходит к ранним этапам развития человечества, когда страх перед силами природы, животными довлел над человеком. Кроме того, таежный мир в концепции звукового ландшафта – нового актуального направления исследований, развивающегося в акустической экологии [Шейкин и др., 2017, с. 94], – наиболее сложный. Звуковая ориентация в условиях ограниченной видимости леса была чрезвычайно важна для охотника. Пребывание в лесу требовало чуткого поведения, гармонирующего с акустической средой ландшафта.
Согласно традиционным представлениям, некоторые духи-хозяева гор, например хозяин Алтая, спокойные и любят, когда вокруг все тихо и спокойно: «Тот, кто в горах сердится, ссорится, издает громкие звуки, навлечет неудачу, вызвав гнев духа горы» [Зеленин, 1929, с. 64]. Необходимость такого поведения в лесу понятна, ведь задачи охотника обнаружить добычу, а не собственное местонахождение, предупредить нападение опасного хищника. Чтобы стать частью таежного мира, охотники надевали специальную одежду, традиционно изготовлявшуюся из шкур диких животных. Буряты шили легкие теплые и непромокаемые куртки и штаны из шкуры косули, кабарги. Сохранял свою значимость древний головной убор, для изготовления которого с головы животного целиком снимали шкуру вместе с ушами и даже рожками [Жамбалова, 1991, с. 79–84; Галданова, 1992, с. 40]. Такая одежда маскировала запах и внешний вид человека. Монгольские охотники, идя добывать изюбрей и лосей, надевали специальную обувь бойтог, сшитую из оленьей или лосиной шкуры мехом наружу. Считали, что зверь не слышит приближение человека в такой обуви [Вяткина, 1960, с. 171].
Еще больше, чем опасных животных, охотники боялись зловредных лесных духов, которые, по их представлениям, заманивали людей в глухие места, убивали или уводили в свой мир. К числу таких духов в верованиях тюрко-монголов относятся бурятские муу шубуун [Галданова, 1987, с. 28], хакасские албы-сы , хуу-хат , тувинские диирены , шулбусы [Бутанаев, Монгуш, 2005, с. 32–37]. На охоте строго запрещалось хвастаться, обманывать, ругаться, сетовать на плохую добычу [Бутанаев, 1996, с. 27; Эрдэнэболд, 2012, с. 114]. Хвастовство, недовольство добычей, чрезмерная жадность и жестокость сурово наказывались лесными божествами (якут. Байанай, монг. Мануу-хай и др.), которые лишали охотника своей милости.
Вербальные ограничения были связаны со многими промысловыми животными. Собираясь охотиться на них, принято было скрывать свои намерения. Поэтому объект охоты не обсуждался, по отношению к нему применялся прием иноговорения. Такие правила соблюдались при добыче медведя, волка, кабана, оленя, некоторых пушных зверей. Монголы называли изюбря тураг («ворон»), лисицу - малгай («шапка»), кабана – тугдгер («горбатый») [Вяткина, 1960, с. 171], волка - тэнгэрийн амьтан/нохой («небесное суще-ство/собака») [Лхагвасурэн, 2013, с. 146]. Верили, что медведь, кабан, волк имеют «земляное ухо», т.е. способны услышать разговоры на большом расстоянии, а олень обладает провидением: «Тот, кто намеревается убить меня – пусть не доживет до старости, тот, кто приходит слушать меня – пусть обретет долголетие» [Галданова, 1987, с. 39]. Часто вербальные ограничения сопровождались и скрытностью действий: чтобы не спугнуть охотничью удачу, якуты шкуру с убитой лисицы снимали ночью, после того как все уснут, чтобы никто не видел [Якутские мифы, 2004, с. 249].
Вербальные ограничения, связанные с природными объектами
В нормативной культуре кочевников строго запрещалось произносить вслух названия сакральных объектов, озвучивать в определенных местах свои истинные намерения и цели. Соблюдение этих правил было особенно актуально в дороге. К мерам, направленным на ограждение путников от опасностей, относится запрет называть вслух «имя» природного объекта, будь то река или горный перевал. Духи-хозяева таких мест, по представлениям но сителей традиционной культуры, могут обладать скверным характером и, если вызвать их гнев, навредить путникам. В число подобных внушающих страх природных объектов входит хребет Шурганту в Монголии, на котором находится «свирепая» гора Хуца: «Если кто о смелится произнести название хребта или горы – пропал: или громом ударит, или воры выкрадут, или же захворает» [Жамцарано, 2001, с. 181]. Сложности переправы требуют соблюдения особых мер и по отношению к р. Керулен, которая, по представлениям местных жителей, связана с р. Тола родственными узами. Она считается старшим братом, поэтому называть Толу до переправы через Керулен нельзя: «Керулен обидится, что предпочитают ему младшего брата Толу» [Там же, с. 183].
К мерам предосторожности относится иносказание. В тюрко-монгольской среде повсеместно наблюдается традиция обращения к величественным природным объектам в следующих вербальных формах: «Бабушка», «Матушка», «Миленький» (бур., монг. Хайрхан ; тюрк. Кайракан ). У бурят путники, остановившиеся на берегу реки, не скажут, что они завтра переправятся через реку. Для этого есть специальное выражение: «Завтра у нашей бабушки туда проситься попробуем» [Баторов, л. 69].
В тюрко-монгольском мире устойчивыми были представления о недопустимости повелительного, надменного и тем более оскорбительного обращения к духам-хозяевам всех природных объектов, поскольку гнев духов даже незначительных озер, ручейков мог иметь катастрофические последствия для людей. В якутском предании о хозяйке таежного озера Ха-рыйалаах спесивый богач, приехавший ловить рыбу, отказался устроить обрядовое угощение для «бабушки» (так обычно называли духов-хозяек водоемов якуты) и оскорбил духа озера следующими словами: «Еще называют бабушкой, вот досада, всякое озерцо стали величать бабушкой, неужто она не может отдать всякую дрянь, обитающую в ее водах?» Богач ругался, угрожал вывернуть наизнанку неводом нутро озера, не оставить в нем ни одной лягушки и т.п. Его речи были не по душе всем, кто участвовал в рыбалке. В наказание богач не поймал ни одной рыбки, лишился невода, подвод и едва живой вернулся домой [Якутские мифы, 2004, с. 289–302].
С особым благоговением относились к высоким горным вершинам, крупным рекам и озерам, пустыням, что традиционно выражалось в славословиях, песнях-гимнах и жертвоприношениях. Вместе с тем выражением почтения на священных местах было соблюдение тишины. Находясь поблизости от священных рек, гор и озер, нельзя шуметь, громко говорить и кричать. Так, например, на берегах крупнейшей сибирской реки Лены и по сей день люди стараются вести себя тихо.
Особым, внушающим страх природным объектом была величественная пустыня Гоби. Свойственные пустынным зонам необычные явления, такие как мираж, песчаная буря, способствовали формированию образа таинственного враждебного человеку места, которое монголы называли Страной Ведьм. В Гоби нередко только проводникам было ведомо, где будет очередная остановка на отдых. И они, как правило, остерегались делиться этой информацией вслух со своими спутниками. По представлениям монголов, живущих в Гоби, пустыня населена злыми духами, которые могут узнать из разговоров людей о месте ночлега и причинить путешественникам вред. Вот как описывает подобную ситуацию один из членов экспедиции Н. Рериха: «Вот беда – пустыня услышала о нас. К вечеру поднялся вихрь; оказывается, мы сами в этом виноваты – громко произнесли название места остановки и тем самым оповестили, по мнению монголов-караванщиков, злые силы пустыни. Они могут обнаружить местопребывание путников и наслать любое несчастье. Никто не должен знать о местах стоянки, кроме караванщиков» [Рябинин, 1996, с. 75]. В путевых записях К.Н. Рябинина отмечена также неточность карт, выполненных монголами-караванщиками, отсутствие в них важных топографических точек – гор, перевалов, дорог и т.д., что объяснялось тем же страхом обнаружить себя в пути перед духами пустыни: «…многие сведения, нанесенные на карты, неверны, вероятно, потому, что монголы не любят произносить названия местностей во избежание случающихся, по их убеждению, несчастий с путниками при упоминания названия, так как “пустыня слышит” и таким образом узнает о местопребывании каравана» [Там же, с. 80]. Примеров, подтверждающих актуальность подобных воззрений, множество. В целом, вероятно, имеет смысл говорить о таком феномене, как «язык путника», характерной чертой которого является широкое использование условных названий [Сагалаев, Октябрьская, 1990, с. 155].
Произнесение имен хозяев сакральных мест без уважительной причины чрезвычайно опасно с точки зрения магии, поскольку способно нанести ущерб хозяйству, причинить вред человеку, понапрасну побеспокоившему духов [Жуковская, 1988, с. 98]. В бурятской традиции имена божеств, духов и даже эпических героев можно произносить только в рамках ритуала, адресованного высшим силам. При этом следует поднести божествам и духам небольшую жертву из пищи и напитков: «На сухую нельзя произносить вслух запретные имена» (ПМА*, 2004 г., Г.В. Басхаев 1937 г.р., с. Байтог Эхирит-Булагатско-го р-на Иркутской обл.).
Запрет на шумное поведение
В традициях всех народов Сибири строго запрещалось шумно себя вести, громко называть кого-либо по имени, особенно в темное время суток, т.к. считалось, что любые громкие звуки, издаваемые человеком, могли привлечь внимание злых духов, которые причинят вред человеку и его семье, хозяйству. Это касалось и всех духов болезней: они обладали особенно острым слухом и выслеживали местонахождение людей, ориентируясь на различные звуки человеческого жилья. Якуты считали, что дух оспы прислушивается к лаю собак, мычанию коров, стуку топора, скрипу саней и приходит к людям [Якутские мифы, 2004, с. 321]. Спасаясь от эпидемий, они скрывались в лесу, стараясь соблюдать тишину – разговаривали шепотом, избавлялись от собак, скот не выпускали на пастбище, сено и дрова возили ночью [Там же].
Согласно верованиям бурят, духи болезней не переносят шум. Поэтому при эпидемических заболеваниях следовало соблюдать тишину. Буряты представляли заянов или эжинов (духов-хозяев) некоторых болезней, вызывающих горячку, очень могущественными духами, которые ездят в черных повозках, запряженных лошадьми черной масти, одна половина лица у них черная, а другая белая. Они разъезжают по улусам и распространяют смертельные болезни. Традиционно в период эпидемии буряты совершали умилостивительные обряды, посвященные только эжинам этих заболеваний (по отношению к духам других болезней их не проводили). Обращались к ним через черного шамана. «Во время обряда говорили тихо, шепотом и шепотом же произносили слова молитвы, так как духи этих болезней не любят громкий говор. Обращаются к ним следующим образом:
“Шибэнжи хэлэшин Шепотом говорящие Шимхэлжи идешин... Щипками едящие”»
[Хангалов, 1958, c. 456].
По народным представлениям, тишину любят и добрые божества. Якуты считали, что богиня Айыысыт, покровительствующая роженицам и новорожденным, незримо присутствует при родах, оказывает помощь роженице и остается в доме, где родился ребенок, еще в течение трех дней. В это время следовало гово- рить только шепотом, ходить тихо, громко не стучать и не ссориться. В противном случае богиня могла рассердиться, покинуть роженицу и оставить новорожденного без своей благосклонности [Слепцов, 1989, с. 93]. Аналогичные воззрения разделяли и буряты. Они полагали, что шумное поведение и громкие звуки могут напугать божество, покровительствующее детям и домашним животным: «Агинские буряты говорили детям: “Не закрывайте дверь сильно, напугаете заяша”. Онгон Эмэгэльжэ Заяаши – покровительница детей и скота» [Гомбожапов, 2006, с. 52, 53].
Особым почтением в кругу кочевников пользовались животные, птицы и другие существа, от которых вели, согласно преданиям, свое происхождение отдельные племена и роды. Уважительное отношение к мифическому предку, в частности к птице, проявлялось со стороны мужчин в соблюдении тишины, а со стороны женщин, помимо особого поведения, – в традиции надевать обязательные элементы одежды, в которых невесткам надлежало показываться на глаза свекру и другим родственникам мужа. Это нарядная безрукавка (уужа, хубайхи, дэглээ, цегедек, цегдк ) у монгольских народов [Бадмаева, 1987, с. 64–65; Шараева, 2011, с. 124]; сигедек у хакасов [Бутанаев, 1996, с. 76], шуба тангалай у якутов. «Если невестки энгин-цев встречали в пути ястреба и не были одеты в танга-лай, то прятались от него в овраге – это они соблюдали обычай “кийииттии”. Даже мужчины не смеют пугать ястреба, громко не разговаривают, говорят только шепотом, имени его не называют...» [Предания…, 1995, с. 189–190].
Ограничения в отношении исполнения песен
В культуре кочевников музыкальное и песенное творчество относится к сфере сакрального, связывая земной мир человека с потусторонним. Рифмованная речь и музыка выступали своеобразным языком, посредством которого люди общались с обитателями иного мира. Согласно верованиям бурят, песней могли заявить о себе болезни (песни заянов [Михайлов, 1987, с. 55]). Считалось, что ею можно исцелиться (зде сь уместно отметить творчество якутских певцов – заклинателей оспы [Гурвич, 1977, с. 184–185]). Сверхъестественное могущество песенного творчества объясняет логику ограничений в отношении исполнения песен. Так, например, в тувинской культуре женщинам запрещается «петь горлом», иначе ее родственникам будет плохо (ПМА, 2015 г., Ч.А. Кара-оол, г. Улан-Удэ). Хакасы запрещали напевать про себя – напевающего человека дьявол слышит через 40 холмов, у напевающего человека нет счастья [Бутанаев, 2003, с. 34]. Во многих случаях подобные ограниче- ния носили локальный характер. Среди бурят запрет на исполнение песен отмечен в Осинском р-не Иркутской обл. Там находится с. Улей, где, согласно преданиям, обосновались души 330 девушек, покончивших с собой или трагически погибших, все они при жизни были лучшими исполнительницами песен. Этот сонм духов, возглавляемый известной красавицей и певицей Буржуутхай-дуухэй [Небесная дева-лебедь, 1992, с. 285–287], заинтересован в умножении своего сообщества, поэтому до сих пор актуален запрет на исполнение песен в данной местности, особенно в темное время суток.
Правила и запреты, связанные с представлением о счастье/благодати
Сдержанность в проявлении эмоций обосновывается не только страхом, который внушала людям суровая природа, но и опасением утратить счастье. О категории «счастье/благодать» в культуре монголов очень подробно писала Н.Л. Жуковская [1988, с. 86–100]. Согласно ее исследованиям, кочевники были уверены, что приобрести и сохранить благодать очень сложно, а утратить легко, если жить не по правилам. Эмоциональное выражение радости могло в скором времени смениться печалью, о чем свидетельствует одна из монгольских поговорок: «Кто чрезмерно веселится, тот потом плачет». Поэтому в культуре монголов существует целая система ограничений и запретов, охраняющих счастье от возможных случайных и намеренных посягательств. Счастье/благодать сродни неуловимой «синей птице», спугнуть которую могло все что угодно. Как верно заметила Н.Л. Жуковская, благодать – очень нежная субстанция.
Цель выпросить счастье и благополучие у высших сил преследовали многие общественные и индивидуальные обряды. Крупными коллективными молениями в традиции тюрко-монголов были весенне-летние тайлганы (буряты) [Дашиева, 2001], ова тǝклhн, обо тахил, балиндмөргөх, дээрмөргөх (калмыки, ойраты Монголии, халха монголы, буряты) [Бакаева, 2003, с. 208; Лхагвасурэн, 2013, с. 141, 142; Эрдэнэболд, 2012, с. 39–41], тайыг (хакасы) [Бутанаев, 1996, с. 179], на которые собирались представители одного рода, племени, племенного союза. Р.С. Мэрдыгеевым подробно описаны ограничения и запреты, которые необходимо было соблюдать бурятской семье после проведения тайлгана: «После совершения последнего тайлгана в хозяйстве держится строгий трехсуточный запрет – хорюл. В течение этого хорюла абсолютно ничего нельзя давать постороннему, нельзя кричать в “пригоне”, бить и ругать скотину, сильно хлопать воротами; в противном случае при несоблю- дении этих правил хозяевами, только что вымоленный хишык (“счастье”), еще не успевший вселиться в хозяйство, может вместе с отдаваемым предметом отойти к постороннему человеку; или же если не соблюдается мертвая тишина и не относятся к скотине с любовью, то может ускользнуть “халяха” (т.е. отделиться) из хозяйства. Хишык поэтому является как бы живым и чутким существом» [Мэрдыгеев, 1928, с. 146].
Вербальные ограничения в сфере брачно-семейных отношений в наибольшей степени регламентировали взаимоотношения представителей семьи, рода с их новыми членами – невестками, зятьями, детьми. Самым распространенным примером является обычай избегания кинит (якут.), сээргхэ (бур.) в брачносемейных отношениях, выраженный запретом на произнесение невесткой имен отца мужа и его близких родственников, особенно старших*. В число последних обычно входили те, по отношению к которым она совершала особый ритуал поклонения во время брачной церемонии: свекр, свекровь, их братья, старшие братья и сестры мужа. Невестка должна была использовать прием иносказания бай сöс (тюрк.). У тюрков Южной Сибири сложился даже особый язык ( пайла ), которым пользовались женщины [Сагалаев, Октябрьская, 1990, с. 151]. Предполагается, что в общественных отношениях принцип иноговорения выступает универсальным способом знакового оформления ситуаций типа «свой – чужой» [Там же, с. 154].
В фольклоре тюрко-монгольских народов широко распространен сюжет о находчивости невестки, которая в сложной ситуации (нападение волков на стадо коров и совпадение имен свекра и его сыновей с названиями животных и природных объектов – ручья, кустарника, где это произошло) смогла быстро информировать членов семьи о случившемся, используя иносказание. Следует отметить, что обычай избегания в разных обществах тюрко-монгольского мира имеет свои особенности. Так, у хакасов он соблюдался только по отношению к тем женам свекра, официальный статус которых был закреплен нормами традиционного брака, и не касался третьей жены, «ибо эту спутницу жизни не приводили на поклон Солнцу и Луне» [Бутанаев, Монгуш, 2005, с. 41]. Нарушение обычая иносказания допускалось только в случае неблагополучных родов. В данных обстоятельствах роженица напрямую обращалась по имени к сестрам мужа, его матери, отцу, прося помощи. После успешных родов невестка в благодарность дарила сестре мужа платье [Там же, с. 140].
Опасение нарушить запрет на произнесение имен родственников мужа отразилось в фольклорном сю- жете калмыков, в особом материнском наказе, адресованном дочери-невесте. Мать зашила в ее подол камень, наказав молчать до тех пор, пока не изотрется подол и камень не выпадет. Так мать попыталась помочь дочери адаптироваться в семье мужа [Шараева, 2011, с. 130]. На наш взгляд, данный сюжет связан с распространенным в прошлом у тюрко-монгольских народов Внутренней Азии ритуалом, в котором особое место занимает камень. В свадебных традициях монголов он используется как символический предмет, закрепляющий невесту на новом месте жительства, в новой семье. По завершении свадебного празднества в доме жениха мать невесты клала камень и зерна на подол платья дочери, сопровождая свои действия благопожеланиями: «Будь прекраснее золота, будь тяжелее камня» [Очир, Галданова, 1992, с. 47]. Во время этой церемонии невеста сидела и не должна была вставать, пока не уедут ее родители. Обряды с камнем фиксируются в традиции разных монгольских народов – халха, ойратов, алтайских урянхайцев [Вяткина, 1960, с. 211; Очир, Галданова, 1988, с. 117; 1992, с. 47; Лхагвасурэн, 2013, с. 128].
Вербальные ограничения сопровождались другими запретами: первое время в новом доме, а иногда и всю свою жизнь невестка не должна подавать свекру из рук в руки посуду с чаем или пищей, угощать табаком, прикасаться к его вещам, ездить на его лошади. У уратов невестка, приступая к своим обязанностям хозяйки юрты после свадьбы, чашку с чаем передавала свекру через третье лицо [Наранбат, 1992, с. 70], а у калмыков она первое время даже не принимала участие в семейной трапезе [Шараева, 2011, с. 130].
Табу, которые должна была соблюдать невестка, объясняются как профилактика снохачества и близких отношений с другими родственниками мужа по восходящей линии [Серошевский, 1993, с. 549; Петри, 1925, с. 30]. Всякое отступление от норм поведения у бурят расценивалось как грех ( сээр ). Наиболее полно это понятие раскрыто Б.Э. Петри: «Согрешить [для бурята] – значит навлечь на себя гнев богов и всякие последствия их гнева и мести – болезни, неудачи, падеж скота, неурожай травы, неудачи на охоте, порчу вещей и т.д. Согрешить – нарушить старинные традиции и тем вызвать неудовольствие стариков, их блюстителей, а может быть и предков; согрешить – совершить проступок против общества и рода и вызвать тем самым насмешки окружающих» [1924, с. 24–25]. Анализируя отношения свекра и невестки в бурятском обществе, исследователь отмечает, что «всякое нарушение запретов по отношению к хадыму [свекру] будет караться божествами, изображения [онгоны] которых висят в его юрте» [Петри, 1925, с. 26]. Как видим, грех не связан с моралью, и единственное, что удерживало человека от грехопадения, – страх перед природой в лице многочисленных божеств и духов предков.
Ряд требований, ограничивающих свободу высказывания, выдвигался по отношению к детям. Им запрещалось громко разговаривать и смеяться в присутствии взрослых, вмешиваться в разговор старших; взрослых следовало называть не по имени, а как родителей (бабушек, дедушек) знакомого им ребенка [Бутанаев, Мон-гуш, 2005, с. 157; Басаева, 1980, с. 105]. Все эти правила прививали уважение к старшим, к природе.
Вербальные ограничения присутствовали и в погребальной обрядности, в частности был известен запрет на произнесение имени умершего [Потапов, 1969, с. 381], однако окказиональный характер таких событий в жизни общества позволяет исключить их из перечня наиболее актуальных в повседневности нормативных правил.
Вербальные ограничения в отношении лиц, облеченных властью
Вербальные ограничения, соблюдаемые молодоженами в расширившей свои границы социальной группе, в XIX в. распространились и на представителей знати в среде монголов. Так, не принято было произ-но сить имена хошунных и аймачных нойонов, хана и духовных лиц [Вяткина, 1960, с. 237]. По наблюдению Г.Н. Потанина, обычай не называть своего нойона по имени был связан с опасением причинения вреда тому, кто его произнес: «Нойон не обидится, но худо будет тому человеку, кто произнес имя нойона...» [Потанин, 1883, с. 131–132]. Все эти фобии в отношении лиц, облеченных властью, вероятно, были обусловлены природой верховной власти в кочевых сообществах, в которых правитель выступал избранником Неба, обладателем харизмы и силы Неба, способным обеспечить процветание своего народа и государства. В эпоху Чингисхана идеологическое обоснование власти значительно усложнилось, наполнившись новыми понятиями, символами, культами [Скрыннико-ва, 1997]. Многие из них, в частности представления о харизме, культ Чингисхана, сохранили свою актуальность в монгольском обществе XIX в. При таком отношении к власти упоминание всуе имен правителей, вероятно, было равнозначно произнесению имен божеств и названий сакральных объектов природы, что, как уже говорилось выше, влекло за собой различные невзгоды.
Заключение
В экономной на слова кочевой культуре тюрко-монгольских народов Внутренней Азии и Сибири вербальные ограничения занимают важную позицию в социальной коммуникации, в общении с природой. Они выражаются чаще всего приемом иносказания, тихой речью либо молчанием. Необходимо подчеркнуть особое значение слова в культурах, в которых владение письменностью было уделом немногих. На протяжении веков оно оставалось основным средством хранения и передачи информации, способом познания и освоения мира. В кочевой культуре до сих пор сохраняется значимость ритуальной функции языка, что накладывает большую ответственность на человека за каждое произнесенное слово. Бездумная, пустая болтовня порицалась в обществе кочевников.
Исследование феномена вербальных ограничений в культуре номадов Внутренней Азии показывает, что кочевое общество находилось в жестких рамках нормативных традиций, малейшее отклонение от которых могло привести к трагическим последствиям. Вербальные ограничения в общении с природой, ирреальным миром обоснованы страхом, естественной реакцией, выработанной в условиях сурового природного окружения и климата Внутренней Азии. Опасением вызвать гнев природы в лице божеств и духов подкреплен и обычай избегания (самый распространенный пример реализации вербальных ограничений в общественных отношениях), направленный на профилактику нежелательных форм коммуникации между членами общества. Сложная и жесткая система правил и предписаний – это прежде всего опыт, полученный в процессе адаптации человека к суровым природным условиям региона.
Вероятно, тесные рамки нормативного поведения обусловили значимость неязыкового контекста кочевой культуры. Информационной насыщенностью характеризуется все пространство, освоенное кочевниками [Allsen, 1996; Bawden, 1958], глубоко символичны их предметное окружение, традиционный костюм, жилище [Майдар, Дарьсурэн, 1976; Wasilewski, 1976; Жуковская, 1988; Содномпилова, 2005].
Работа выполнена за счет гранта в форме субсидии из федерального бюджета, выделяемой для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущего ученого государственного научного центра РФ (проект № 075-15-2019-1879).
Список литературы Вербальные ограничения в коммуникации тюркских и монгольских народов Внутренней Азии
- Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1987. – 142 с.
- Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. – Элиста: Джангар, 2003. – 358 с.
- Басаева К.Д. Семья и брак у бурят (вторая половина XIX – начало ХХ века). – Новосибирск: Наука, 1980. – 223 с.
- Баторов П.П. Об образовании Земли, о шамане, изгоняющем ада и анахаев // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 14 (Личный архивный фонд П.П. Баторова). Оп. 1. Д. 23.
- Богданов К.А. Очерки по антропологии молчания: Homo Tacens. – СПб.: Рус. христиан. гуманитар. ин-т, 1997. – 352 с.
- Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1996. – 222 с.
- Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 260 с.
- Бутанаев В.Я., Монгуш Ч.В. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005. – 196 с.
- Вяткина К.В. Монголы Монгольской Народной Республики (материалы историко-этнографической экспедиции Академии наук СССР и Комитета наук МНР 1948–1949 гг.) // Восточно-Азиатский этнографический сборник. – М.; Л.: Наука, 1960. – С. 159–269.
- Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. – Новосибирск: Наука, 1987. – 115 с.
- Галданова Г.Р. Закаменские буряты: Историко-этнографические очерки (вторая половина XIX – первая половина XX в.). – Новосибирск: Наука, 1992. – 172 с.
- Гомбожапов А.Г. Традиционные семейно-родовые обряды агинских бурят в конце ХIX – XX в. – Новосибирск: Наука, 2006. – 183 с.
- Гурвич И.С. Культура северных оленеводов-якутов. – М.: Наука, 1977. – 245 с.
- Дашиева Н.Б. Бурятские тайлганы (опыт историко-этнографического исследования). – Улан-Удэ: Изд.-полигр.комплекс Вост.-Сиб. гос. академии культуры и исскуства, 2001. – 105 с.
- Жамбалова С.Г. Традиционная охота бурят. – Новосибирск: Наука, 1991. – 175 с.
- Жамцарано Ц. Путевые дневники 1903–1907 гг. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – 380 с.
- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. – М.: Наука, 1988. – 195 с.
- Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. – Л.: Изд-во АН СССР, 1929. – Ч. I: Запреты на охоте и иных промыслах. – 151 с. – (Сб. МАЭ; т. VIII).
- Крадин Н.Н. Процессы трансформации скотоводческого хозяйства в Туве и Забайкалье на рубеже XX–XXI вв. // Этногр. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 8–27.
- Лхагвасурэн И. Алтайские урянхайцы: Историко-этно-графические очерки (конец XIX – начало XX в.). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. – 176 с.
- Майдар Д., Дарьсурэн Л. Гэр: Орон сууцны түүхэн тойм. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1976. – 179 с.
- Митупов К.Б. Проблемы изучения Внутренней Азии // Гуманитарные исследования Внутренней Азии. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. – № 1. – С. 6–8.
- Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура, социальные функции. – Новосибирск: Наука, 1987. – 287 с.
- Мэрдыгеев Р.С. Изделия из шерсти и волоса в Аларском аймаке // Бурятиеведение. – Верхнеудинск, 1928. – № I–III, V–VII. – С. 139–149.
- Наранбат У. Свадебный обряд уратов Внутренней Монголии // Традиционная обрядность монгольских народов. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 56–71.
- Небесная дева-лебедь: Бурятские сказки, предания и легенды. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992. – 368 с.
- Осокин Г.М. На границе Монголии: Очерки и материалы к этнографии юго-западного Забайкалья. – СПб.: [Тип. А.С. Суворина], 1906. – 304 с.
- Очир А., Галданова Г.Р. Традиционная семейная обрядность мингатов МНР // Культурно-бытовые традиции бурят и монголов. – Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1988. – С. 109–128.
- Очир А., Галданова Г.Р. Свадебная обрядность баятов МНР // Традиционная обрядность монгольских народов. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 24–56.
- Петри Б.Э. Брачные нормы у северных бурят // Сборник трудов Иркут. гос. ун-та. – Иркутск: [1-я Гос. типолит.], 1924. – Вып. 8. – С. 3–32.
- Петри Б.Э. Внутриродовые отношения у северных бурят. – Иркутск: [б. и.], 1925. – 72 с. – (Изв. Биол.-геогр. науч.-исслед. ин-та при Иркут. гос. ун-те; т. 11, вып. 3).
- Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – СПб.: [Тип. В. Безобразова и Ко], 1883. – Вып. IV: Материалы этнографические. – 1029 с.
- Потапов Л.П. Очерки народного быта тувинцев. – М.: Наука, 1969. – 401 с. Предания, легенды и мифы саха (якутов) / сост.
- Н.А. Алексеев, Н.В. Емельянов, В.Т. Петров. – Новосибирск: Наука, 1995. – 400 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока).
- Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. – 749 с.
- Рябинин К.Н. Развенчанный Тибет. 1928: Подлинные дневники экспедиции Н.К. Рериха. – Магнитогорск: Амрита-Урал, 1996. – 736 с.
- Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Знак и ритуал. – Новосибирск: Наука, 1990. – 209 с.
- Семке В.Я., Богомаз С.А., Бохан Т.Г. Качество жизни молодежи народов Сибири как системный показатель уровня стрессоустойчивости // Сиб. вестн. психиатрии и наркологии. – 2012. – № 2 (71). – С. 94–98.
- Серошевский В.Л. Якуты: Опыт этнографического исследования. – 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 1993. – 736 с.
- Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. – М.: Вост. лит., 1997. – 216 с.
- Слепцов П.А. Традиционная семья и обрядность у якутов (XIX – начало XX в.). – Якутск: Кн. изд-во, 1989. – 158 с.
- Содномпилова М.М. Семантика жилища в традиционной культуре бурят. – Иркутск: Радиан, 2005. – 218 с.
- Термен А.И. Среди бурят Иркутской губернии и Забайкальского края: Очерки и впечатления. – СПб.: [Тип. Минва внутр. дел], 1912. – 144 с.
- Хангалов М.Н. Собрание сочинений. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – Т. I. – 550 с.
- Шараева Т.И. Обряды жизненного цикла калмыков XIX – начала XXI в. – Элиста: Джангар, 2011. – 218 с.
- Шейкин Ю.И., Добжанская О.Э., Никифорова В.С., Игнатьева Т.И. Звучащие ландшафты Арктики: слышимое пространство природы и сакрального мира // Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования. – М.: Канон+, 2017. – С. 93–126.
- Шинкарев Л.И. Монголы: традиции, реальности, надежды. – М.: Сов. Россия, 1981. – 256 с.
- Эрдэнэболд Л. Традиционные верования ойрат-монголов (конец XIX – начало XX в.). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – 194 с.
- Якутские мифы / сост. Н.А. Алексеев. – Новосибирск: Наука, 2004. – 451 с.
- Allsen T. Spiritual geography and political legitimacy in the eastern Steppe // Ideology and the Formation of Early States/eds. H.J.M. Claessen, J.G. Oosten. – Leiden: Brill, 1996. – P.116–135.
- Bawden C.R. Two Mongol text Concerning Obo-Worship // Oriens Extremus. – 1958. – Vol. 5, N 1. – P. 23–41.
- Dundon A., Hemer S.R. Ethnographic intersections: Emotions, senses and spaces // Emotions, Senses, Spaces: Ethnographic Engagements and Intersection. – Adelaide: University of Adelaide Press, 2016. – P. 1–15.
- Hall E.T. The Hidden Dimension. – N. Y.: Doubleday, 1982. – 217 p.
- Hall E.T., Hall M.R. Hidden differences: Doing Business with the Japanese. – N. Y.: Doubleday, 1990. – 172 p.
- Sinor D. Introduction: the concept of Inner Asia // The Cambridge History of Early Inner Asia. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 1–19.
- Tuan Yi-Fu. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudesand Values. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974. – 260 p.
- Wasilewski J. Space in nomadic Cultures – a spatial analysis of Mongol yurt // Altaica Collekta. – Wiesbaden: Harrassowitz, 1976. – P. 345–360.