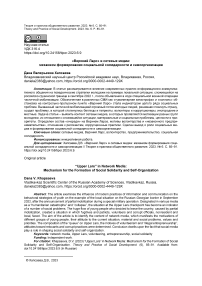«Верхний Ларс» в сетевых медиа: механизм формирования социальной солидарности и самоорганизации
Автор: Хапсаева Дана Валерьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние современных практик информационно-коммуникативного общения на поведенческие стратегии молодежи на примере локальной ситуации, сложившейся на российско-грузинской границе в сентябре 2022 г., после объявления в ходе специальной военной операции частичной мобилизации. Обозначенная в различных СМИ как «гуманитарная катастрофа» и «коллапс» обстановка на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» стала индикатором целого ряда социальных проблем. Вызванный частичной мобилизацией огромный поток молодых людей, решивших покинуть страну, создал проблему, в которой столкнулись беглецы и патриоты, волонтеры и коррупционеры, иногородние и местные. Задача статьи - выявить контент сетевых медиа, в которых проявляются мотивации разных групп молодежи, их отношение к сложившейся ситуации, материальные и социальные проблемы, ценности и приоритеты. Определен состав «очереди» на Верхнем Ларсе, мотивы волонтерства и «незаконного предпринимательства», отношение к релокантам, коррупционные практики. Сделан вывод о роли социальных медиа в формировании социальной солидарности и самоорганизации.
Сетевые медиа, верхний ларс, волонтерство, предпринимательство, социальная солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/149142652
IDR: 149142652 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.9
Текст научной статьи «Верхний Ларс» в сетевых медиа: механизм формирования социальной солидарности и самоорганизации
Владикавказский научный центр Российской академии наук, Владикавказ, Россия, ,
Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Vladikavkaz, Russia, ,
Современные практики сетевого общения, наряду с официальной коммуникацией, создают широкие возможности для неформального взаимодействия на основе различных интересов не только индивидов, но и целых сообществ. Создаваемый ими контент оказывает несомненное влияние на общественный дискурс, имеет мобилизационные и консолидирующие ресурсы, поэтому сетевые медиа становятся предметом исследовательского внимания. Однако если роль официальных СМИ в различных общественных процессах является традиционной исследовательской темой, то «новые» сетевые медиа, с их постоянно обновляющимися техническими возможностями, нуждаются в мониторинге и углубленном изучении.
В числе работ, посвященных влиянию «новых» СМИ на процессы консолидации и солидаризации общества, следует отметить ряд монографий (Бергер, Лукман, 2010; Брайант, Томпсон, 2014), а также статьи, посвященные различным функциям социальных медиа, их роли в политических процессах (Рябова, Сулейманова, 2016), в мобилизационных технологиях (Мельник, 2014). Отдельные аспекты процессов формирования социальной сплоченности или разобщенности становились предметом исследования, в том числе как продукта формирования публичной сферы (Хижняк, 2017; Абашев, Печищев, 2019; Славина, Солдаткина, 2021).
В настоящей статье ставится задача выявить роль сетевых медиа в формировании социальной солидарности и самоорганизации на примере локальной ситуации, сложившейся на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 г.
Эмпирическую базу исследования составили 7 медиа-текстов, извлеченных из 5 цифровых платформ, тематические чаты «Верхний Ларс», «SOS Ларс», 6 фокусированных интервью с участниками событий – волонтерами. С момента объявления частичной мобилизации спешно появлялись специальные чаты для обсуждения планов бегства из страны, вариантов быстрее продвинуться в очереди и пр. Фрагменты чатов стали распространять в Telegram-каналах, где сотни незнакомых людей решали множество организационных вопросов, расписывали доли финансового участия в экстренной эвакуации, находили машины, бронировали квартиры, прокладывали маршруты и пр. Telegram-каналы «Верхний Ларс» набирали до 3,4 тыс. подписчиков; чат «SOS Ларс» набрал за сутки полмиллиона подписчиков.
Методологией, адекватной задачам исследования, представляется качественный социологический подход, направленный на выявление смысловой составляющей солидарности, проявившейся в локальной ситуации. Конкретными методами исследования стал контент-анализ содержания онлайн-текстов, созданных акторами событий в ходе коммуникативного взаимодействия, с учетом аргументации в форме фото- и видеообъектов, подтверждения достоверности информации гиперссылками, доверия – формами одобрения «лайками». Качественный анализ позволяет понять представления о рассматриваемой ситуации и роли участников события в ее конструировании.
Применен также метод «анализа случая» (case study), проблемно-ситуационного анализа, предполагающий детальное описательное исследование и интерпретацию случая локальной ин-тернет-солидарности и самоорганизации на Верхнем Ларсе.
Указанные качественные методы позволили выявить механизм социальной солидарности и самоорганизации: создание онлайн-сообщества на основе оперативного обмена актуальной информацией – мобилизация к конкретным солидарным действиям – реализация последних в офлайн-формате: организация волонтерства, медицинской помощи, создание групп наведения порядка в очереди и пр.
21 сентября 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, которая предусматривала призыв 300 тысяч граждан, прошедших срочную службу. Не готовые к участию в СВО молодые люди устремились в страны, имеющие прямую наземную границу с Россией. Одной из них стала Грузия, которую соединяет с Россией единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) в селении Верхний Ларс Республики Северная Осетия – Алания. Уже задолго до объявления мобилизации КПП на Верхнем Ларсе испытывал проблемы с пропускной способностью, поскольку изначально не был рассчитан на то количество автотранспорта, которое через него проходило. Министерство транспорта РФ в ходе реконструкции запускало дополнительные полосы на въезд в Россию, но грузинский пункт пропуска «Дариали» с такой нагрузкой не справлялся, на нейтральной полосе скапливались многокилометровые очереди. После объявления частичной мобилизации на российско-грузинской границе произошел настоящий коллапс с характерными чертами гуманитарной катастрофы.
Верхний Ларс – это международная автомобильная граница, поэтому, по правилам, ее пересечение предусмотрено на транспортном средстве. В стихийно сложившейся ситуации в качестве такового стали использовать велосипеды, мопеды, самокаты, скутеры, в ход пошли и корзины на колесах из супермаркетов. Грузинский КПП разрешил прохождение границы без транс- порта. По свидетельствам участников пешей очереди, время её преодоления на российской границе занимало 12 часов, нейтральную территорию до границы с Грузией проходили за 7 часов. Автомобильная очередь продвигалась также медленно: за 15 часов примерно на 1,7 км1.
Краткое описание происходящего – огромная и малоподвижная очередь с женщинами, детьми и животными, холод, голод, слабое понимание происходящего, ощущение полной безысходности. И панические атаки, умело создаваемые в сетевых медиа, которые оповещали о ретивом поведении некоторых военных комиссаров, о возможном закрытии границы для мужчин призывного возраста, распространяли фейки, передернутые факты, не скупились на советы.
Большую часть многокилометровой очереди составили молодые люди, прибывшие во Владикавказ из Москвы, Санкт-Петербурга, других российских городов. Кроме релокантов, в числе ожидающих возможности пересечь границу оказались выполнявшие свою обычную работу водители большегрузов, жители Грузии и Армении, семьи с детьми, отправлявшиеся на отдых в Тбилиси и Батуми, гости Владикавказа, приглашенные на масштабные праздничные мероприятия, посвященные 1100-летию крещения Алании, и даже автобусы с животными, которые направлялись на выставку в Ереван.
Местные жители в своем большинстве негативно отнеслись к беглецам. Это подтверждается и общественным дискурсом, в котором осуждались «уклонисты», «бегуны», «перебежчики», «велосипедные войска», появлялись неологизмы для их обозначения («испуганты», «сентяб-рята» и пр.), и даже насмешливо учреждались награды «За штурм Верхнего Ларса», изображения которых рассылались в различных медиа-источниках.
Некоторые участники ларсовского «стояния» жаловались на презрительное отношение к себе сотрудников КПП и силовых ведомств, местных жителей, особенно женщин, работающих в магазинах и кафе и закрывающих перед ними двери. Толпы здоровых убегающих мужчин – непривычная картина для менталитета местных женщин, переживших за последние десятилетия несколько войн и вооруженных конфликтов и привыкших видеть в мужчинах свою безусловную защиту. Они действительно не скрывали своего презрительного отношения к происходящему, как и многие женщины из других регионов: «У меня маленькие дети. Но мне и в голову не пришло остановить мужа, пожелавшего пойти добровольцем. Повестка ему еще не пришла. Возраст 35. В армии служил, чемпион по самбо. Теперь готовит документы для медкомиссии, чтобы взяли. Что в итоге: веками русские женщины провожали своих мужчин на войну»2
Вместе с тем совершенно очевидно, что мощным фактором сетевой паники стали излишне активные женщины, взявшие на себя заботу о своих мужчинах, особенно молодых отцах и сыновьях. Заметным участником распространения паники стали довольно успешные IT-специалисты, которые наиболее активно раздавали советы, куда именно ехать удобнее всего, чтобы продолжить трудиться в удалённом доступе и пр. Свою лепту внесли и «тролли» из стран СНГ, из уст которых звучали угрозы, проклятья, предупреждения в формате «мы вам не рады, Грузия не ре-зиновая»3. Отношение к релокантам в анализируемых чатах сложно назвать неоднозначным, приведем самые типичные мнения. «Жалко ли этих людей? Если честно, то не очень. Они выбрали свой путь, сбежав из страны в тяжёлый момент, а затем большинство из них будет лить помои на нашу с вами страну, находясь за границей. Многие из них как раз осели в Грузии»4; «Побежали, да и Бог с ними, главное, чтобы потом, когда у нас все, я надеюсь, устаканится, они не вернулись назад. Они с Россией только тогда, когда у нее все хорошо, и готовы кинуть ее тогда, когда у нее все плохо. А поэтому, надо сделать так, чтобы они не смогли вернуться, они выбрали свой путь, пусть там и остаются»5.
Общественный дискурс поделил мигрантов на «февралят» и «сентябрят». «Февралята» позиционируются как пацифисты, проявившие свою гражданскую позицию. «Сентябрята» осуждаются как «волна эмигрантов», которые “спасались”, “бежали”, “эвакуировались”»6. В общественном дискурсе удивляют и внезапные проявления патриотизма среди беглецов, которых возмущало отношение грузин к георгиевской ленте: машины с такой символикой разворачивали на грузинской границе. Не меньшее удивление вызывают вопросы в чатах: почему нельзя проехать через Цхинвал, платить российскими картами, почему в Грузии с ними не хотят говорить по-русски.
В контексте отмеченного негативного отношения к уклонистам неожиданной темой общественного дискурса стало волонтерство местной молодежи, которое стихийно возникло с первых суток и активно продолжалось в течение всей недели. Волонтерство в Осетии уже имеет свою историю, «ковидный» период которой позволил наработать бесценный опыт благотворительной деятельности. В Верхнем Ларсе отличительной чертой добровольчества была самоорганизация посредством специальных чатов. Центром волонтерства стал Дом печати во Владикавказе, куда неравнодушные горожане привозили гуманитарную помощь – продукты, средства гигиены, бутилированную воду и лекарства. Каждые два-три часа с этой точки в сторону Верхнего Ларса выезжало по несколько машин, работа не прекращалась и ночью. Один из волонтеров создал чат «SOS Ларс» ночью 26 сентября, а уже утром в нем было около пятисот участников. Часть волонтеров развозила помощь адресно, ориентируясь на геолокацию просивших о помощи. «Час назад приезжали волонтёры: кормили людей пловом, раздавали хлеб, воду и пончики», – подтверждали стоявшие в очереди1. Люди из очереди и сами приходили на пункт сбора помощи за водой и едой. Многим просто нужно было общение. «Приходили поговорить. А вначале было очень много агрессии. Мы только подъехали, люди сразу обступили нашу машину – думали, мы без очереди хотим прорваться, кричали, возмущались. Когда поняли, что мы волонтеры, извинялись и благодарили»2. «В первый день здесь было особенно страшно. Застали жуткую драку, машины стояли по три ряда в каждой полосе, гул от криков, женщины в обморок падали. Километров шесть мы шли вверх пешком, раздавали сэндвичи. Люди даже по отношению к нам были негативно настроены, пугались, отказывались. Когда мы видели детей, говорили: “Не хотите брать себе – возьмите детям… Мне всех безумно жалко: и тех, кто бежит из страны, и тех, кто не бежит. Некоторые просто домой едут. Парень здесь был один, в Армению возвращался, по-русски совсем не говорил. А у него бензин закончился. Остановился, а помощи попросить не может… Больше всего детей жаль, я столько грудничков видела»3.
Среди волонтеров были и медики. В очереди случалось всякое: кашель и температура у детей (в целях экономии бензина машины слабо отапливались, а ночью в горах холодно), переломы, открытые раны, сердечные приступы, нервные срывы, гипертония и даже ножевые ранения, полученные в схватке с теми, кто пытался обойти очередь. Волонтеры получали «вызовы» в чатах и пытались оказывать адресную помощь, но геометки менялись, и найти больных не всегда получалось.
Одни участники дискурса расценивали мотивацию волонтеров как поддержку уклонистов, другие – как проявление традиционного гостеприимства и гуманного отношения к нуждающимся в помощи. Сами волонтеры подтверждали вторую позицию. «Это – катастрофа, она происходит на нашей земле, мы не можем оставаться в стороне: в очереди стоят и пожилые люди, нездоровые, есть диабетики, много женщин и детей. Им никто не помогает, мы не должны оставить их без воды и еды. В магазинах уже ничего нет» (муж., 33 года). «Мы умеем организовать доставку гуманитарной помощи, есть “ковидный” опыт, но здесь сложнее в плане логистики, трудно сделать доставку в начало очереди, проехать невозможно, приходится идти с грузом пешком. Но мы не можем оставить этих людей, там реально все плохо. Стараемся не для испугантов, но обделять их не будем. Они не достойны уважения, но в воде и еде им отказывать не стоит. На нашей земле никто не должен умереть с голоду» (муж., 28 лет). Ответственность за людей, которым не на кого рассчитывать, многократно отмечена в качестве основного мотива волонтерства4.
Наряду с осуждением беглецов, есть и примеры более лояльного комментирования ситуации. «Не надо никого осуждать, разные могут быть обстоятельства. Кто-то психологически не готов, бежит из страха. Кто-то понимает, что физически не готов воевать, среди них много хилых. Они ведь могут еще осознать все и вернуться. Может быть, кому-то просто нужно время» (жен., 22 года). «А чего вы ждали? Они не виноваты, их так воспитали. Слово “патриот” последние 30 лет использовалось для насмешек, а теперь хотим, чтобы молодые сразу патриотами стали?» (муж., 58 лет). «26 сентября мне кто-то переслал сообщение из большой группы “Верхнего Ларса” о том, что заболели дети, и им нужны лекарства. Я зашла в саму группу и просто открыла портал в ад: очень много просьб о помощи и какие-то неадекватные ценники за ее оказание. Например, цена на бензин доходила до 1 тысячи рублей за литр, а за 100 тысяч предлагали объехать очередь на мотоцикле» (волонтер, жен., 24 года). «Первые два-три дня ты еще держишься. У тебя есть бензин, еда, вода. Жесть начинается на третий-четвертый день, когда все это заканчивается. Мы попали в пик, начали работать именно в этот момент» (волонтер, муж., 28 лет).
Анализ чатов показывает, что деятельность волонтеров вызывала и осуждение, самых активных из них причисляли к оппозиционерам. «Я никакой не оппозиционер, я искренне за Россию, за Осетию. Просто людей жалко. Я уверен, что все они обязательно вернутся», – объяснял свою позицию один из организаторов волонтерства, подчеркивая, что считает правильным помогать людям, оказавшимся в беде1.
Однако наряду с благотворительностью в Верхнем Ларсе ускоренными темпами развилась некая незаконная предпринимательская деятельность, зачастую обретавшая формы мошенничества. Первыми сориентировались таксисты и владельцы автотранспорта: проезд от Владикавказа до начала очереди обходился в десятки раз больше обычной цены за проезд. Местных жителей вдохновил на эту коммерческую деятельность уровень благосостояния «уклонистов», в панике скупавших старые велосипеды за 100 тысяч рублей, чтобы объехать образовавшуюся перед Верхним Ларсом пробку2. Особо креативные предприниматели предлагали туры «аll inclusive», что означало переход границы «под ключ» из аэропорта Владикавказа до границы. Когда было объявлено разрешение о пешем переходе, «очередники» по бросовым ценам стали продавали машины перекупщикам. Некоторые просто бросали свои машины и уходили пешком, чтобы успеть пересечь границу3. Местные жители стали предлагать в аренду машино-место за 700 рублей в сутки4. Пострадавшие от мошенников делились в чатах своим печальным опытом5. В сетях советовали пересекать границу пешком6, но эта практика оказалась неудачной, поскольку пешая очередь оказалась тоже огромной, люди стояли в ней по 6 часов. «После этого мы нашли грузинов на машине, они согласились довезти до Тбилиси за 30 тысяч с человека. Мы согласились, лишь бы посидеть в тепле и не стоять, спина отказывала уже»7. Мошенники оправдывали свои действия тем, что заработать на «богачах-предателях» вовсе «не грех». Эта тактика нашла поддержку у некоторых блогеров: «местные правильные пацаны хорошо проредили кошельки этих фраеров, овца должна быть подстрижена»8. Подобная идеология не может быть оправданием мошеннических действий, которые должны расцениваться как нанесение материального вреда и злоупотребление доверием, как проявление корысти и антигуманности.
В чатах есть информация о коррупции среди сотрудников ДПС, которые вызывали возмущение своим благосклонным отношением к таксистам и ВИР-персонам, объезжающим многокилометровую очередь по встречной полосе9. Позже в республиканском МВД подтвердили, что пятеро сотрудников действительно отстранены от работы на время доследственной проверки10. После этого в отдельных чатах появились сообщения, что сотрудники ДПС делают свою работу, которой так не хватало в предыдущие несколько дней11.
Панические настроения усилились после поступления информации об открытии мобильного пункта военкомата на российско-грузинской границе. Правда, вскоре стало понятно, что большинству бегущих от мобилизации он ничем не угрожает, повестки будут вручать исключительно жителям республики12.
К сожалению, информация официальных СМИ в первые дни была скудной и запоздалой, практически не попадала в онлайн-дискурс, который полностью формировался сетевыми медиа.
28 сентября был объявлен режим повышенной готовности. Въезд автотранспорта в Северную Осетию был ограничен для всех, кроме жителей республики, Южной Осетии, Грузии, а также граждан, имеющих документальное подтверждение необходимости въезда в Аланию. Ситуацию удалось стабилизировать: очередь сократилась вдвое.
Ситуацию на Верхнем Ларсе можно сравнить с другим случаем в г. Владикавказ – пожаром на экологически опасном заводе, приведшем к панике и массовому бегству людей из города. Сетевые медиа «Электроцинк. Чем мы дышим?», «Стоп, Электроцинк», «Мы против “Электро- цинка”» и ряд других способствовали общественной солидарности, организации массового митинга и ликвидации завода (Хапсаева, 2021: 99). Но активными акторами тогда выступили и Общественная Палата РСО-А, Народный фронт, официальные СМИ. Уникальность же рассматриваемой ситуации на Верхнем Ларсе заключается в том, что сетевые медиа стали единственным и самостоятельным актором солидарности и самоорганизации.
Таким образом, ведущим механизмом формирования социальной солидарности и самоорганизации в исследованной ситуации являлось создание на основе сетевых средств массовой коммуникации онлайн-сообществ, объединенных условиями стихийно сложившейся ситуации, формирующих мобилизационный потенциал, готовность к коллективным действиям. Движущими силами их выступали каналы коммуникации и акторы интернет-солидарности: онлайн-активисты, пострадавшие «очередники», волонтеры, сочувствующие пользователи Сети, число которых постоянно увеличивалось. Сдерживающими факторами интернет-солидарности стали проявившиеся в общественном дискурсе разные взгляды на ситуацию.
Проведенное исследование позволяет определить роль современных сетевых коммуникационных практик в разрешении сложных ситуаций, в частности, подобных сложившейся на Верхнем Ларсе. Сетевые медиа создали контент, который дал возможность выявить состав и мотивацию поведенческих практик всех участников, их отношение к сложившейся ситуации, к релокантам, коррупционным практикам, которое во многом обусловлено материальными и социальными проблемами, ценностями и приоритетами. Роль сетевых медиа проявилась в информационном обеспечении «очереди», формировании онлайн-солидарности, которая привела к реальным коллективным действиям на основе самоорганизации в режиме офлайн.
Вместе с тем обнаружила себя и негативная составляющая деятельности сетевых медиа: забросы недостоверной информации и создание панических настроений. Регулировать этот процесс сложно из-за неподконтрольности сетевых медиа, но в рассматриваемой ситуации было бы правильным участие в дискурсе официальных пресс-служб руководства республики, профильных ведомств, которые должны были делиться информацией о предпринимаемых мерах, не допускать паники и ощущения брошенности людей на произвол судьбы, о чем много писали в первые 3–4 дня.
Исследование стихийных, «острых» ситуаций, подобных истории Верхнего Ларса, актуализирует значимость качественных методов анализа и сетевых медиа как информативного, а в отдельных ситуациях, и единственного источника.
Список литературы «Верхний Ларс» в сетевых медиа: механизм формирования социальной солидарности и самоорганизации
- Абашев В.В., Печищев И.М. «Открылось новое пространство»: локальные урбанистические медиа в производстве городской среды // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, № 2. С. 131-147. https://doi.org/10.17072/2073-6681-2019-2-131-147.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 2010. 208 с.
- Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2014. 432 с.
- Мельник Г.С. Новые (тактические) медиа как структурный компонент мобилизационных технологий // Гуманитарный вектор.2014. № 3 (39). С. 130-135.
- Рябова Е.Л., Сулейманова Ш.С. Новые медиа и современные политические процессы // Этносоциум и межнациональная культура. 2016. № 6 (96). С. 9-29.
- Славина В.А., Солдаткина Я.В. Медиакультура как феномен информационной эпохи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2021. Т. 26, № 2. С. 286-293. https://doi.org/10.22363/2312-9220-2021-26-2-286-293.
- Хапсаева Д.В. Риск-конструкт в экологической социологии: теория и практики // Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2021. № 28. С. 96-103.
- Хижняк А.С. Роль информационных технологий в реализации идеологии феминизма // Juvenis Scientia. 2017. № 9. С. 36-38.