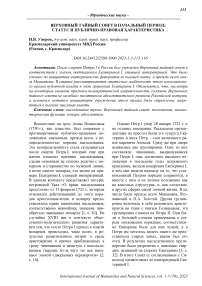Верховный тайный совет в начальный период: статус и публично-правовая характеристика
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 1-3 (76), 2023 года.
Бесплатный доступ
После смерти Петра I в России был учрежден Верховный тайный совет в соответствии с указом, подписанным Екатериной I, ставшей императрицей. Это было сделано по инициативе екатерининских фаворитов из высшей знати, и прежде всего князя Меншикова. В статье рассматриваются статусные особенности этого коллегиального органа публичной власти в годы правления Екатерины I. Отмечается, что, несмотря на некоторые внешние признаки демократической направленности, создание Верховного тайного совета не колебало политически абсолютистского режима Российской империи, а основным мотивом инициаторов учреждения этого органа было стремление закрепиться в высших эшелонах власти.
Наследование трона, верховный тайный совет, полномочия, законотворческая функция, монарх, абсолютизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170198157
IDR: 170198157 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-1-3-113-116
Текст научной статьи Верховный тайный совет в начальный период: статус и публично-правовая характеристика
Восшествие на трон Анны Иоанновны (1730 г.), как известно, был сопряжен с противоречивым публично-правовым положением, связанным, прежде всего, с неопределенностью порядка наследования. Эта неопределенность стала складываться после смерти Петра I, который еще при жизни изменил принцип наследования, сделав основным не степень родства с монархом и старшинство по мужской линии, а волю самого монарха, что видно на примере Екатерины I, ставшей императрицей. В данном контексте представляет интерес петровский Указ «О праве наследования престолом» от 15 февраля 1722 г., которым отменялся действовавший до этого порядок престолонаследия, и монарху предоставлялось право назначения наследников, соответственно важнейшее значение приобретало завещание монарха [1, с. 62]. Не случайно XVIII век в контексте общественно-политического развития характерен тем, что после Петра I приход к власти монархов происходил, чаще всего, в результате разветвленных интриг в среде аристократии и прочих приближенных к трону чиновников и зачастую с использованием гвардии, из-за чего это век называют эпохой «дворцовых переворотов» [2, с. 16].
Однако Петр I умер 28 января 1725 г. и не оставил завещания. Реальными претендентами на престол были его супруга Екатерина и внук Петр – сын казненного ранее царевича Алексея. Сразу же при дворе выявились две группировки. Одну из них составляли чиновники, выдвинувшиеся при Петре I: они, достигшие высокого положения в последние годы петровского правления, желали воцарения Екатерины I, в чем они видели надежду на то, что установленный Петром порядок сохранится, а вместе с ним и их личное положение как во властных структурах, и, как следствие, в других сферах своей личной жизни. В их числе были прежде всего Меншиков, Ягу-жинский и П.А. Толстой. Другая группировка включала в себе родовитых аристократов во главе с князем Голицыным; эта группировка ставила на Петра II. Они были в большей степени привержены к старым московским порядкам, соответственно Екатерина была для них чужой, а в Петре им хотелось видеть такого же представителя старых начал, каким был его отец. В результате наследственное противоречие было разрешено с помощью гвардии, вставшей на сторону Екатерины [3, с. 32]. В итоге Сенат (с согласованием с Синодом) провозгласил ее императрицей Екатериной I.
Однако не является секретом то обстоятельство, что Екатерина в силу своих личностных, образовательных и иных характеристик не была способна самостоятельно управлять таким огромным и сложным государством, как Российская империя, поэтому ее решения императрицы предопределялись влиянием Меншикова. В свою очередь, Меншикову и его сторонникам Сенат стал помехой, так как его члены достаточно хорошо знали многие прегрешения петровского фаворита, и, к тому же, могли помешать далеко идущим планам Меншикова в сфере публично-властных отношений, которые он, вероятно, имел [3, с. 34]. Имея в виду укрепить свое положение, Меншиков, Толстой, Апраксин посоветовали Екатерине I учредить специальный орган, который бы возвышался над всеми государственными учреждениями империи и был бы ее опорой, учитывая, что в Сенате были члены, которые проявляли недовольство воцарением Екатерины на трон.
Императрица согласилась (вероятно, иного и не могло быть, поскольку ей больше не на кого было опереться среди высшего чиновничества). И тогда 8 февраля 1726 г. был издан указ об учреждении Верховного Тайного Совета [4] (далее также – Верх.ТС), ставшего основным публично-властным органом при императрице, то есть выше Верх.ТС по властным полномочиям была только сама Екатерина. В состав Верх.ТС вошли князь А.Д. Меншиков (фактически именно он управлял деятельностью данного органа), граф П.А. Толстой, государственный канцлер граф Г.И. Головкин, генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин, барон А.И. Остерман (немец, начавший службу в России при Петре I), а позже, через месяц, в него был включен Карл Голштинский – муж дочери Петра I Анны и наиболее видный представитель старой знати Д.М. Голицын [5, с. 74].
Следует заметить, что Верх.ТС не стал принципиально новым органом при императоре. Дело в том, что еще ранее, при императоре Петре I, обсуждался вопрос об учреждении более гибкого, с меньшим числом членов, чем Сенат, органа, и эта идея принадлежала самому Петру I. Напомним, что при нем появились так называемые негласные советы, главной задачей которых было более эффективное государственное управление [6, с. 434]. Вновь созданный орган сразу же получил высокий статус – о его значимости свидетельствовало, например, то обстоятельство, что стали издаваться указы, «объявленные из Верховного Тайного Совета», то Верх.ТС сразу же, по факту, получил законодательные полномочия [7, с. 48], и равным образом это касалось его правоприменительной деятельностью в различных областях государственной жизни. При этом не забудем, что ведущим стимулом создания Верх.ТС была борьба внутри правящей элиты за власть. Не случайно в акте об учреждении Верх.ТС внимание концентрировалось на конкретных личностях, причем в его состав вошли и бывшие сенаторы – из числа тех, кто поддерживал дуэт Меньшикова и Екатерины I. В свою очередь, те сенаторы, которые должны были заменить своих коллег, перешедших в Верх.ТС, уже не имели права быть также постоянным членом Верх.ТС [3, с. 34].
Но в целом статус Верх.ТС., процедурные аспекты реализации его полномочий не имели достаточной определенности. Так, опубликованные журналы и протоколы заседаний Верх.ТС в 1728-1729 гг. показывают что члены Верх.ТС регулярно заслушивали доклады Военной коллегии, Адмиралтейской коллегии и коллегии Иностранных дел (эти коллегии считались основными), Главной дворцовой канцелярии, Сената, а также реляции послов и рапорты главнокомандующих, и довольно быстро эта деятельность приобрела системный характер; в литературе в этой связи указывается, что «на смену спорам по вопросам внутренней и внешней политики приходит рутинная работа: производство в чины и отставка, назначение губернаторов, вице-губернаторов и комендантов, рассмотрение состояние конюшенного ведомства» [8, с. 147].
Что касается законотворческой деятельности Верх.ТС, то ее интенсивность была достаточно высокой. Так, согласно сведениям, имеющимся в Полном собраним за- конов Российской империи, за 27 месяцев царствования Екатерины I было издано 428 актов, за 28 месяцев нахождения на престоле Петра II – 438 законов [9, с. 277]. В целом Верх.ТС имел значительную самостоятельность. Императрица в текущей деятельности Верх.ТС участия не принимала – с этим органом взаимодействовала через своего представителя А.В. Макарова – Кабинет-секретаря, выполнявшего указания и поручения императрицы, причем не только в отношении Верх.ТС, но и Сената (впоследствии, при новых монархах, его влияние упало, а при Анне Иоанновне находился в опале, едва не попав под репрессии [3, с. 35]).
Однако, несмотря на делегированные важнейшие государственные полномочия, Верх.ТС все же не посягал на абсолютную власть монарха. Например, при несогласии по какому-либо вопросу члены Верх.ТС должны были обращаться к императрице, то есть система абсолютизма не подвергалась сомнениям. Так, только императрица единолично могла назначать членов Верх.ТС. Другое дело, что часть полномочий верховной власти действительно делегировалась Верх.ТС (но делегирование властных полномочий не означает переход соответствующих статусных полномочий). Да и в самом указе об учреждении Верх.ТС говорилось о том, что «сие определение на первое время служить имеет», а «впредь как тому быть … сочинить явственное и обстоятельное определение»; в литературе указывается и на другие факты в этом отношении [3, с. 37]. Во исполнение этого, в частности, в Указе Верх.ТС от 1 января 1727 г. подчеркивалось, что этот орган действует от имени и по распоряжению верховной власти, при этом все решения, принятые «верховниками», подлежали утверждению императрицей, без подписи которой постановления Верх.ТС не имели законной силы. При этом основной функцией Верх.ТС определялось законотворчество. Но одновременно, как отмечается в литературе, было бы ошибочно сводить деятельность Верх.ТС только к законотворчеству и управлению - слабость верховной власти этого периода определяла и иные полномочия, а именно связанные с вопросами двора и царской семьи [10, с. 25].
Между тем одновременно с расширением полномочий Верх.ТС компетенция Сената некоторым образом ограничивалась, сужаясь к вопросам высшей судебной юрисдикции, и не случайно титул «правительствующего» (стал называться «высоким» [11]). Такое положение дало основание для выдвижения в историко-правовой литературе гипотезы о том, что с созданием Верх.ТС «довольно отчетливо вырисовывались контуры разделения властей, что бесспорно является одним из важнейших признаков конституционализма» [6, с. 435]. Однако с такой гипотезой (в части конституционализма, связанного с созданием Верх.ТС) трудно согласиться. Так, выше отмечалось, что власть монарха не ограничивалась. Подобным образом можно говорить и том, что в свое время Петр I учредил Сенат и также делегировал ему значительные полномочия, при этом Сенат как коллегиальный решал вопросы также голосованием, однако последнее слово в любом случае оставалось за императором.
Список литературы Верховный тайный совет в начальный период: статус и публично-правовая характеристика
- Указ от 15. 02. 1722 г. «О праве наследования престолом» // Законодательство Петра I / Под ред. Т. Е. Новицкой. - М.: Юрид.лит-ра, 1997. - С. 62.
- Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизации. - М.: Новое лит.обозр., 1999. - 326 с.
- Демьяненко М.А. Особенности абсолютизма как формы государственного правления и развитие правовой системы в период властвования императрицы Анны Иоанновны (1730-1740 гг.): дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. - 194 с.
- Указ от 08. 02. 1726 г. «Об учреждении Верховного Тайного Совета» // ПСЗ-1. № 4830.
- Алексеев А.С. Сильные персоны в Верховном тайном Совете Петра II и роль князя Голицына при воцарении Анны Иоанновны. М.: Тип.МУ, 1898. 157с.
- Таловеров С.Ю. Верховный тайный совет в системе высших государственных учреждений Российской империи (1726-1730 гг.) // Пробелы в российском законодательстве. -2008. - № 1. - С. 434-435.
- Белова Т.А. Законодательная деятельность Верховного тайного совета (17261730 гг.): дис. ... канд. ист. наук. - Омск, 2004. - 174 с.
- Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской эпохи, 1725-1762 гг. - РСПб.: Наука, 2019. - 761 с.
- Сборник Русского исторического общества (РИО). - СПб.: Тип. Скороходова, 1889. Т. 69. - 1052 с.
- Назаренко Н.И. О "Кондициях" к Анне Иоанновне // История государства и права. -2011. - № 16. - С. 24-28.
- Указ от 07. 03. 1726 г. «О должности Сената» // ПСЗ-1. № 4847.
- Рябченко Е.В., Палазян А.С., Рябченко А.Г. Теоретические и методологические особенности "возрожденного" естественного права в России конца XIX - начала ХХ века. - Краснодар: КУ МВД РФ, 2006. - 106 с.