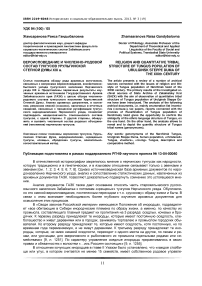Вероисповедание и численно-родовой состав тунгусов урульгинской степной думы XIX в
Автор: Жамсаранова Раиса Гандыбаловна
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Исторические науки, этнология и археология
Статья в выпуске: 3 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обзору ряда архивных источников, связанных с вопросами вероисповедания, хозяйственно-бытового уклада тунгусского населения Нерчинского уезда XIX в. Представлены первичные результаты изученных архивных источников Государственного Архива Забайкальского края (ГАЗК) с целью обзора численно-родового состава тунгусского населения Урульгинской Степной Думы. Анализ архивных документов, в основном, ревизских описей («сказок»), налоговых и отчетных сведений, связанных с процессом русификации тунгусского народонаселения Нерчинского уезда, позволяет подтвердить неоднозначность этноязыкового состава тунгусов, с одной стороны. С другой стороны, обнаружить и выявить численный состав родовых объединений (генонимов) нерчинских тунгусов.
Генонимы нерчинских тунгусов, уруль-гинская степная дума, народонаселение, "крещеные" тунгусы, "ловцы", "бродячие" тунгусы, описательно-сопоставительный метод
Короткий адрес: https://sciup.org/14949734
IDR: 14949734 | УДК: 94
Текст научной статьи Вероисповедание и численно-родовой состав тунгусов урульгинской степной думы XIX в
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-04-00040
В отечественной историографии закрепилось мнение о нерчинских тунгусах как народности, которую традиционно и в генетическом, и в языковом отношении связывают только с эвенками и эвенами [см.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Однако источниковедческая база архивных документов по народонаселению Нерчинского уезда, анализ и сопоставление статистических данных, извлеченных из архивных документов ГАЗК, позволяют доказательно подвергнуть сомнению это устоявшееся мнение.
Анализ документов ГАЗК также дает основание относить часть старожильческого русскоязычного населения Забайкалья к потомкам «крещеных» тунгусов Нерчинского уезда. Обусловлено это сменой вероисповедания, постепенным переходом к т.н. «русскому» образу жизни и быта. В связи с этим возникает необходимость более глубокого изучения архивных документов для осмысления этих процессов.
В «Своде законов Российской империи» имеющееся Положение об инородцах, подразделяет «все обитающие в Сибири инородческие племена по образу жизни, а именно, по качеству их промысла, составляющего главный предмет их пропитания на 3 разряда: оседлых, кочевых и бродячих. К первому разряду принадлежат те инородцы, которые имеют постоянную оседлость, хлебопашество и живут деревнями или в городах, занимаясь торговлею и промыслом городских обывателей. Ко второму разряду принадлежат те, которые имеют оседлость, хотя постоянную, но по временам года переменяемую, и не живут деревнями. К третьему разряду принадлежат те инородцы, которые, не имея никакой оседлости, переходят с одного места на другое, по лесам и рекам, или урочищам, для звероловного и рыболовного их промысла отдельными родами или семействами» [9, л. 1251]. По характеру управления оседлые инородцы приравнивались в своих правах и обязанностях к волостям «…изъ Россиян состоящих» [9, л. 1255].
В отношении кочующих инородцев в главе II Указом было установлено, что «каждое стойбище или улус, в котором считается не менее 15 семейств, имеет собственное родовое управле- ние…Родовое управление состоит из старосты и одного или двух помощников из почетных и лучших родовичей. Староста избирается или наследует сие звание по обычаям. Между своими родо-вичами он может носить именование князца, зайсана и проч., но в сношениях с Правительством имеетъ называние староста. …несколько стойбищ или улусов одного рода почитают Управу. Инородная управа состоит из головы, двух выборных…Головы получают звание наследственно или по выбору съ степными обычаями каждого племени» [10, л. 1]. Известно, что до прихода русских служивых людей в пределы исторической Даурии автохтонное население (и тунгусское в том числе) управлялось посредством Степных уложений или степных законов [11].
В главе III Указа говорится о составе управления бродячими инородцами или ловцами . «Родовое управление ловцов состоит из одного старосты. Но поелику законы сии и обычаи в каждом племени имеют некоторое и часто важное от других отличие, при том же. Сохраняясь поныне чрез одни изустные предания, могут быть и сбивчивы и неопределенны. То по сим причинам предоставляется местному начальству от почетнейших людей собрать полный и подробный о сих законах сведения, рассмотреть оныя по Губерниям в особых временных комитетах, смягчить все дикое и жестокое, отменить все несообразное с другими установлениями, и расположить в надлежащем порядке и представить местному Главному Управлению на утверждение…. Недостаток в степных законах при решении дел дополняется Российскими узаконениями» [12, л. 2].
Глава IX посвящена вопросам управления «инородцами, несовершенно зависящих от Правительства», которые «…управлялись и судились по своим обычаям и обрядам. Суду Российскому подлежали только в случае убийства или насилия на Российской земле учиненные. Пользуются покровительством и защитою Российского Правительства во всех внутренних их делах, единственно тогда, когда с просьбами их о том прибегать будут. Имеют право свободной и беспошлинной торговли с соседственными им Россиянами и инородцами. Имеют право с позволения местного начальства переселяться и перекочевывать на земли, собственно Российскому Государству принадлежащие…. Все сношения с Правительством должны сии инородцы производить через своих старшин или почетных людей».
Население исторической Даурии (Нерчинского уезда) ко времени присоединения к России представляло собой достаточно сложное и неоднородное в этноязыковом отношении сообщество, судя по этимологии родовых названий тунгусов и бурят [10; 11; 12; 13]. Исходя из градации населения Даурии согласно Положению об инородцах, основное этническое начало составляло тунгусское население, которое возможно определить как «ловцов» и «кочующих инородцев». Имелось, по всей видимости, и такая часть населения, которая «несовершенно зависела от Правительства».
Подтверждает наличие этой условной классификации смысл текста следующего документа – «Дополнительные сведения для составления военно-статистического описания Нерчинского округа Иркутской губернии» (1850-1852 гг.). «Все вообще Урульгинское ведомство состоит из тунгусов изъ коих значительная часть постепенно приняла православие и проживают в селениях. Занимаясь свойственным крестьянам занятием (сохраняя между тем и прежние свойства зверопро-мышленности) идолопоклонники проводят жизнь кочевую. Занимаясь исключительно скотоводством и зверопромышленностию и во всякое время года кочуют по разным отведенным им местам с юртами и стадами, приискивая для скотоводства удобные пастбища…. происхождения манджур-ского, но письмо имеют монгольское. Они в образе жизни просты, гостеприимны, друг к другу сострадательны, к Начальнику имеют безъ преданную покорность. В порок им ставят суеверие….они вверяются безусловно шаманству» [17, л. 114].
Очевидно, что в приведенном описании тунгусского населения Урульгинского ведомства прямо указывается на то, что в среде тунгусов присутствуют и маньчжурско-монгольские этнические компоненты. Очевидно, что именно эта часть тунгусов и имела право именоваться в Указе как та часть инородцев, которая «несовершенно зависит от Правительства», т.е. которые могли в любой момент покинуть пределы государства и перейти на соседние территории – Маньчжурию или Монголию. К таковым, по-видимому, возможно отнести «конных тунгусов» в силу их мобильности.
Известно, что исследователями Б.О. Долгих, Г.М. Василевич, В.А. Туголуковым и др. в среде нерчинских тунгусов выделялась отдельная часть – т.н. «конные тунгусы» [1; 2; 18]. Эта часть народонаселения Нерчинска - тунгусы с кочевым образом жизни, славившиеся коневодством, – была отлична от другой, довольно немногочисленной части – оленных тунгусов или орочон. Предположительно именно последние, будучи по своему этногенезу и языку народностями тунгусоманьчжурской языковой семьи, т.е. эвенами и эвенками, и определили этноязыковой «облик» «нерчинских тунгусов» в отечественной историографии. Поэтому естественно возникает вопрос об этнической и языковой принадлежности конных тунгусов. Заметим, что соотнести конных тунгусов с бурятами, в частности, с хори-бурятами, которые также занимались коневодством, малообосно- ванно [19].
Любопытно, что в изученных документах ГАЗК XVIII-XIX вв. не используется этноним «бурят» или «хори-бурят(ы)». В большинстве документов нами зафиксировано определение «инородцы» (под которыми, по-видимому, и следует понимать бурят) и «тунгусы». Это возможно трактовать как то, что под этнонимом «тунгус» подразумевалось, во-первых, отличающееся от инородцев-бурят и языком, и антропологическими данными, некое население с кочевым укладом быта. Во-вторых, тунгусы представляли собой и такую часть населения, которую было легче подвергнуть христианизации в силу или их же их религиозно-конфессиональной «шатости» или же в силу иных обстоятельств. В-третьих, в архивных документах встретилось описание хозяйственно-бытовой деятельности тунгусов. Помимо основных занятий - скотоводства, коневодства, звероловства и рыболовства - отмечается и хлебопашество, огородничество («в малом виде»), а также упомянуто о том, что «посевы льна и конопли по тунгусскому ведомству не производится, хотя в некоторых местах засевается конопли в малом количестве только для домашнего обихода...» [20, л. 118].
При этом невозможно не учесть то, что почти все население Якутии на тот исторический период было приведено в православие. Не избежали этого и эвенки, кочевавшие на северных, смежных с Якутским уездом, территориях Нерчинска. Заметим, что инородческо-бурятское население еще с XV в. исповедывало ламаизм, что повлекло смену их прежней антропонимической системы на тибет-монгольскую [13]. Инородцы-буряты в силу и своего номадного быта, и культуры, и религиозных предпочтений были прочнее связаны с населением Монголии, что давало им возможность беспрепятственно перемещаться в пределах территорий Монголии и России.
Поэтому в силу их политической неблагонадежности данный Указ явился одним из первых официальных документов, который, дифференцируя народонаселение Нерчинского уезда согласно их образу жизни, предоставил в последующем реализацию гибкой имперской политики в отношении инородцев. Приграничное положение Нерчинского уезда служило условием особого положения кочевых родов, к которым применялась политика относительной лояльности. Подобные исторические прецеденты наблюдались среди хори-бурят вплоть до 1917 г., когда целые улусы уходили со скотом и скарбом в соседнюю Монголию. Правительство вынуждено было не строго взыскивать с них ясак и повинности, пытаясь таким образом «склонить» их на свою сторону.
Положение тунгусов под предводительством князя Гантимура было несколько иным. Тунгусы оказались в немилости у своих «родовичей» с маньчжурской стороны и потому были вынуждены искать расположения у новоявленных «хозяев», требующих ясака. Ту часть тунгусов, которую Указом квалифицировали как «бродячих» или «ловцов», было нелегко застать на одном месте для обложения их ясачной повинностью, и являлась, по-видимому, эвенками или орочонами.
По-видимому, «бродячий» образ жизни орочон и обусловил появление Указов о розыске бродячих тунгусов, переходящих с одного ведомства в другое: «Дела «о розыскании бродячих тунгусов Баунтовского ведомства удалившихся в Нерчинский округ 53 душъ» от 1848 г.; «Приказ о даче данных о бродячих тунгусах удалившихся в Нерчинский округ»; «Списокъ 20 душъ отошедших из Баунтовского Кондигирского рода тунгусах»; «Список отошедших из Баунтовского Чилчагирского рода тунгусов в Округъ всего 33 души обложенных ясаком, отошедших в 1844 году» и т.д.
Эти перемещения «неблагомыслящего» населения не могли остаться незамеченными властью, обеспокоенной, прежде всего, сбором ясака. Этим и обоснован Указ императора от 1828 г., в котором предлагалось местным властям «…дабы восстановить совершенное спокойствие инород-цевъ, нарушающееся от зловредных действий одних неблагомыслящих изъ среды их, предлагает Губернскому Правлению предписать всем Земским судам и инородным управлениям пяти уездов Иркутской Губернии, чтоб отнюдь никто из инородцев не осмеливался искать без законных причин переводовъ из одного рода или ведомства в другое, и что в противном случае, если кто из них будет просить о сем, и просьбы их по точном удостоверении окажутся несправедливыми, виновные в семъ, или нарушители общественного спокойствия будут подвергнуты строгому законному взысканию...» [20, л. 132].
Определенный интерес представляют факты о хозяйственно-бытовом укладе народонаселения Нерчинского уезда на примере такого документа, как «Дело о представленных сведениях Доктору философии 8 класса Алекс Хрестьяновичу Кастрену 27 апреля 1848 года» [21]. Судя по тексту документа, правление Урульгинской Степной Думы составило достаточно подробное описание населения, хозяйственного уклада, вероисповедания и прочих особенностей тунгусского населения.
К Урульгинской инородной управе на тот период были приписаны следующие тунгусские роды: Теленбинский, Мунгальский, Кельтегирский, Дулигатский, Дулигатский домуев, Яравнин-ский и бродячие орочоны. Теленбинские тунгусы кочевали по рекам Кручина, Урульга, Нарын Та- лача и прочим, впадающим в реку Ингода. Мунгальский род - при речке Улдурге и урочищу Поварня, Дулигатские тунгусы - при речке Нарын Талача, Поварне. Смежные урочища по реке Ингоде занимал род Дулигатско-домуев. Яравнинские тунгусы кочевали при озерах Яравнинском и Телен-бинском, по урочищам Сахалтуй, по рекам, впадающим в р. Чита. Орочоны (т.е. оленные тунгусы) появлялись в урочищах и падях севернее от р. Нерча.
В этой инородной управе из государственных властных структур имелась Степная Дума, Урульгинская инородная управа, 1 Начальник тунгусских родов, 3 заседателя при Степной Думе. Православное духовенство было представлено 8 священнослужителями, которые несли службу в деревянной церкви (1 штука).
Представлено количественное соотношение инородцев - крещеных и некрещеных. Так, по народной переписи 1831 г. бродячие орочоны (24 души) считались еще некрещеными, в Телен-бинском роду крещеных было - 86 душ, некрещеных - 23; в Мунгальском - 79 и 23 души соответственно; в Кельтегирском роду крещеных душ было 29, некрещеных - 14, в Дулигатском 74 крещеных, некрещеных - 23; в Дулигатско-домуевом - 11 и 21 душа некрещеных тунгусов; в Яравнин-ском роду крещеных - 24 души, а некрещеных - 55. Всего населения было в данной управе 490 человек, в т.ч. крещеных - 307, некрещеных - 183 души. В итоге, по переписи 1831 г. крещеных тунгусов насчитывалось более, чем некрещеных. К переписи 1858 г. почти все тунгусское население было приведено в православие. Заметим, что анализ ревизской описи 1858 г. по Урульгинской Степной Думе дает основание считать «исчезновение» тунгусского народонаселения фактом свершившимся, т.к. антропонимическая система тунгусского населения была полностью заменена на русскую [22].
Количественный состав крещеного населения самого крупного инородческого образования тунгусов Забайкалья, такого как Урульгинская инородная управа, позволяет утверждать о смене конфессиональной принадлежности аборигенного населения, способствовавшего в последующем русификации тунгусов Нерчинского уезда. Данные статистики крещеных и некрещеных тунгусов позволяют восстановить схему обращения населения в православие не только в количественном отношении, но и в пространственном. При сопоставлении официальных данных отчетливо видно, что те родовые объединения, которые обитали ближе к центру управы и Степной Думы, прежде других подверглись христианизации, нежели те, которые кочевали в отдаленных от центра урочищах и падях, недостижимых для священнослужителей.
Смена конфессиональной принадлежности тунгусов Забайкалья при активном воздействии государственной власти также явилась одним вероятных и действенных факторов смены этнической принадлежности народонаселения Нерчинского уезда. Закрепление русскоязычного населения на пограничных территориях было выгодно империи по ряду причин. Среди этих причин также было и то, что за счет русификации населения увеличивалось число т.н. «государственных крестьян», часть которых приписывалась к серебро-рудным заводам Нерчинска. Государственные крестьяне, пополнявшиеся и за счет переселения из центра России, и за счет каторжан (которые, впрочем, не особо задерживались в Забайкалье) должны были заниматься и хлебопашеством, т.к. доставлять хлеб из других регионов Российской империи в Нерчинск было крайне нерентабельно.
В этих целях создаются хлебные экономические магазины при управах, призванные содействовать государственной политике «склонения» инородцев к власти, а также тому, «чтоб ясаш-ные не удалялись» в соседние с Забайкальем территории. Для обеспечения магазинов хлебом необходимо было приучить местное население земледелию, что, в свою очередь, обязывало их перейти к оседлому образу жизни. Оседлых инородцев, исповедывавших каноны православия, было удобнее и безопаснее иметь в своем государстве, нежели «бродячих» и кочевых, способных в любой момент покинуть пределы государства и, таким образом, «изменить» ему.
В документе «Налоговые документы. Сведения о родившихся и умерших. Материалы об избрании заседателей в Думу, ведомства, об оспопрививании, состоянии хлебных запасных магазинов…» сохранился текст «Указа Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского изъ Иркутскаго Губернского Правления вновь избранному и утвержденному в Узонский род ведомства Князя Гантимурова старшине Тихону Холмогорцеву» [23, л. 348]. Стилевые особенности текста позволяют считать данный документ инструкцией наказного характера: «…принуждать, чтобы они (подчиненные - Р.Ж.) неленостью упражнялись в звериных промыслах, дабы могли положенный ясак в казну платить в совершенной исправности, …стараться тебе самому обзавестись по обыкновению русских крестьян домовым строением, которое послужит лучшим убежищем зимою от стужи, а летом от воздушных переменъ, каковым вы в юртах своих беззащитно подвергаетесь. А для лучшего пропитания сверхъ обыкновенного звериного промысла стараться особенно о заведении и распространении пашен на посевъ всякого роду хлеба, и радении скотоводства, употре- бив к тому наисильнейшее попечение, от чего не только сам ты со своим семейством лучшее спокойствие и продовольствие иметь можешь, но тем покажешь и другим ведение своего родовичам полезной примеръ, что они ревнуя оному без принуждения, по собственной своей воле заведутся домостроительством и пашнею, что принесетъ общую пользу. …кто из подчиненных или родови-чей явится нерачительны, таковых наказывать…». Документ датирован «24 дня 1828 года».
Следует заметить, что смена вероисповедания части населения кардинально не отразилась на хозяйственно-бытовом укладе тунгусов. В Урульгинской инородной управе общее количество «юрт войлочных и деревянных» насчитывалось 118 штук. Верблюдов этой управе не разводили, коней было – 1 062 головы, рогатого скота – 1 755, баран и коз – 1 692 штуки, оленей – 165 голов. Всего «живности всякой» насчитывалось 4 674 головы.
Также значимой по величине и численному составу населения в Урульгинской Степной Думе была Оловская инородная управа, которая находилась от Нерчинска на расстоянии 80 верст и состояла из 8 родов: Перводулигарский, Второбаягирский, Кельтегирский, Почегорский, Узонский, Сухановский, Городовой и Нероновский . «Все сии роды кочуют и имеют жительство при р. Шилке, по разным рекам, впадающим в оную реку, Олову, Кугиче, Курлыче, Шивье, Кулинде, чаще Олека-ну, Торге, Торгоконь, Кие, Киекану, при речке Нерче, впадающей в реку Шилку». Православное духовенство составляло уже 16 священнослужителей, было построено 3 каменные и 1 деревянная церкви. Юрт насчитывалось в Перводулигарском роду 152 единицы, по всей управе дополнительно – 118.
Всего душ ясачного населения в Оловской управе было 1 584 души, крещеных – 1 486 чел., некрещеных – 98. К 1848 г. все 350 душ Перводулигарского рода были окрещены и, соответственно, уже имели русскую антропонимическую систему. Из 184 чел. Второбаягирского рода 173 души были приведены в православную веру. Полностью были окрещены Сухановский (269 душ), Городовой (352 души) и Нероновский роды (61 душа). Верблюдов тунгусы этих родов не разводили, коней насчитывалось 2 307 голов, крупного рогатого скота – 3 598 голов, баран и коз – 5 304 единицы. Всего скота в единицах насчитывалось 11 209 голов.
В Шундуинской инородной управе население состояло из 810 чел., из которых 315 душ было крещеных, 495 – некрещеных. В управе состояли роды Улятский, Челкагирский, Наматский и До-лотский. Юрт войлочных и деревянных насчитывалось по всей управе 152 штуки, в Улятском – 310. У тунгусов этих родов имелась только 1 инородная управа, церквей и кумирен не было. Тунгусы этой управы имели «жительство и кочевки при урочищах Тургинском, Камгикуйском, Шундуин-ском. Кочуют по реке Онону и сопке Гулаевой, по правую сторону Онона с отпадками до устья пади Мухор-Булаку и выше Коточеевской, по речкам Бырке и Билектую». В Улятском роду крещеных было 131 душа, некрещеных – 237, всего – 368 душ. В Челкагирском всего человек было 180, из них некрещеных – 88, крещеных – 92 чел. В Наматском роду (206 душ) крещеных – 64, некрещеных было – 142 чел. В Долотском при общем количестве 56 чел. половина было окрещена (28), а другая половина из 28 душ - некрещеные.
При сопоставлении количества скота обнаруживается следующая закономерность, а именно – некрещеное большинство населения занималось, в основном, скотоводством. Эта особенность тунгусского населения Шундуинской управы объяснима также и природно-хозяйственными условиями обитания, т.к. урочища и пади Приононья – это, в основном, лесостепная и степная зоны, пригодные, в основном, для скототоводства. Верблюдов было 43 головы, коней – 2 120 штук, рогатого скота – 2 955, коз и баранов – 2 483 единицы. Всего голов скота в Шундуинской управе было 7 601 шт.
В состав Маньковской инородной управы, расположенной в юго-восточной стороне от Нерчинска на расстоянии 216 верст, входили роды Первобаягирский, Второбаягирский, Перводу-лигарский, Втородулигарский, Намятский, Чипчигирский, Дуларский, Конурский, Долотский . Тунгусы этих родов «жительствовали в пади Калгукане, речке Борзе, Алдонде, Биликтую, Норой Горолаку, Урулюнгую, при устье пади Куркуры, от тунгусского брода до речки Урулюнгую, Большому Кондую, Капшигиру, озерам Цаган Оноре и Килусутаю ( Кулусутаю – Р.Ж .), по падям Будиакану и по речке Борзе, падям Дусуркае, Зурукчине и Куркыре». Из всего числа (1 480 душ) некрещеными числилась 841 душу, крещеными – 539 чел. Скота разного вида было 19 512 голов, из них верблюдов – 54, коней – 3 658 голов, рогатого скота – 4 910 штук, коз, баранов – 10 950 голов. Церквей и кумирен не имеется.
В Кужертаевскую инородную управу, которая располагалась в юго-западной стороне от Нерчинска на расстоянии 310 верст, входили Узонский, Тукчинский, Баликагирский, Гуновский и Чимчагирский роды тунгусов. Жительствовали эти тунгусы «при реке Ононъ на устьях впадающих в оную речкам и урочищам Калтыгею, Адагулике, Кужертаю, Тарбальжею и прочим падям» Прио- нонья. Крещеного населения меньше, чем в других управах: в Узонском крещеных – 96, некрещеных тунгусов – 481; в Тукчинском соответственно 47 и 177 душ, в Баликагирском – 26 и 52 души, в Гуновском роду – 12 и 229 чел. некрещеных, в Чимчигирском – все 44 души некрещеные. Очевидно, что некрещеные тунгусы подвергались влиянию ламаизма, т. к. в управе было 4 кумирни, лам – 166 чел., хувараков – 37. Общее количество юрт составляло 230 единиц. Скота разного вида было в управе 17 134 головы, из них верблюдов – 45, коней – 3 123, рогатых – 3 485, коз и баранов – 10 481 единица.
В Онгоцонской инородной управе, расположенной на юго-западной стороне от Нерчинска в 305 верстах, насчитывалось 3 рода тунгусов: Сартоцкий, Вакасильский и Люникерский . Кочевали эти роды «по рекам Акша, Кыра, Былыра, Курульга и Бырца». Была 1 кумирня, лам насчитывалось 38 чел., хувараков – 21. Соответственно этому крещеных тунгусов было меньшинство: в Сартоц-ком из 436 душ только 8 чел. считались крещеными, из 66 чел. Вакасильского рода только 6 чел. были крещеными, а в Люникерском все 251 чел. были некрещеными. Данный факт может означать, что тунгусы этих родов к этому времени были, вероятно, приведены «в ламскую веру» и имели тибет-монгольскую антропонимическую систему. В отношении такого показателя, как скотоводство, данные этого документа свидетельствуют, что коней более всего разводили тунгусы Сартоцкого рода (1 245), вакасильцы (493), менее всех – 136 голов – Люникерский род. Всего по управе коней было 1 874 головы, рогатых – 1 283, баран и коз – 2 769 штук. Верблюдов в Онгоцон-ской управе, судя по документу, не разводили.
К 1848 г. в Урульгинской Степной Думе было инородных управ 6, православного духовенства 24 чел., лам – 204 чел., хувараков – 58, каменных церквей – 3 единицы, деревянных церквей – 2 штуки, кумирен – 5. Крещеных тунгусов всего по Думе было 2 842 души, некрещеных – 3 339, всего населения насчитывалось 6 281 чел. Верблюдов всего – 142 головы, коней – 14 144, рогатого скота – 17 986, баран и коз – 33 679, оленей – 165 штук.
Данная статистическая ведомость наглядно отражает культурно-хозяйственную картину, сложившуюся в XVII-XIX вв. в Забайкалье. Вопреки сложившемуся в отечественной историографии мнению о том, что тунгусы Забайкалья это эвенки в прошлом, следует оспорить это убеждение, приведя некоторые соображения по этому поводу. Во-первых, представленные по ведомости цифры и особенности хозяйственного уклада тунгусов Урульгинской Степной Думы свидетельствуют о превалировании скотоводческого типа хозяйствования по сравнению с оленеводством. Во-вторых, наличие 165 оленей, которых имели бродячие орочоны Урульгинской инородной управы, не представляют собой веского основания, позволяющего понимать под тунгусами только эвенков. В-третьих, православное духовенство и буддийские ламы и хувараки составили серьезную конкуренцию традиционной вере тунгусов – шаманизму. Христианизация и буддизация, вероятно, и явились теми основными факторами «исчезновения» тунгусов Забайкалья и «появления» русского старожильческого населения и бурят. Эвенки или орочоны, в силу оленеводческого типа хозяйствования, «бродили» со своими стадами оленей на северо-восточных территориях, прилегающих к ведомству Урульгинской Степной Думы.
При этом следует отметить, что число «бродячих» инородцев, т.е. эвенков-орочон оставалось стабильным на протяжении определенного периода. Так, в более раннем документе 1844 г. из общего количества тунгусского населения числом в 5 582 чел., только в Урульгинской управе «было помимо 466 душ тунгусов бродячих 24 душъ орочон» [24, л. 84]; тогда как в других «бродячих» тунгусов-орочон не имелось, хотя к Оловской управе было приписано 903 души, к Шундуин-ской – 815, к Маньковской – 1 481, к Кужертаевской – 1 164, к Онгоцонской – 753 души тунгусов. «Оседлые» же тунгусы занимались к тому же хлебопашеством, т. к. в этом же документе даны сведения о «состоянии хлебопашества по ведомству Урульгинской Степной Думы», где на 5 582 души ясачного населения приходилось 1 569, 5 запашных десятин. Известно, что эвенки-орочоны или же эвены не занимались обработкой земли.
Согласно архивным документам количество ясашных тунгусов по ревизии 1823 г. составляло 5 586, из них поборных (т.е. плательщиков ясака) было 4 584 души. От платежей были «освобождены 1 002 души, в числе которых состоитъ умершихъ 481 душа, престарелых и дряхлых 285, бедных и неимущих 236 душ» [25, л. 107]. Интересно, что количество бродячих оленных орочон – 30 душ считается отдельно и входит только в общее число (5 616). Из числа поборных эти 30 чел. бродячих орочон исключены.
К 1852 г. по ведомству Урульгинской Степной Думы инородцев кочующих было 3 931 душа мужского пола и 3 404 женского [26]. В числе кочующих подразумеваются число «оседлых господствующей веры» (по-видимому, крещеных) 2 458 мужчин и 2 373 женщины. Ламской веры мужчин 2 925 и 1 980 женских душ. Шаманской веры придерживались 1 200 мужчин и 1 029 женщин [26, л.115]. Крестьян, обращенных в казаков, было всего соответственно 51 мужчина и 56 женского пола. Казаков прежнего состава насчитывалось соответственно 19 и 16 женщин. Купцов 2-ой гильдии 7 и 6; 3-й гильдии – 57 и 65 женского пола. Мещан было 41 мужчина и 45 женщин, дворян 3 и 2 соответственно. «Духовенство белое» составляло следующее соотношение – 34 души мужского пола и 19 женского.
Из этого краткого обзора ряда архивных документов по численно-родовому составу, вероисповеданию, хозяйственно-бытовому укладу жизни тунгусского населения Нерчинского уезда XIX в. возможен следующий вывод: тунгусское население Нерчинского уезда к XIX в. «превращалось» в русское, благодаря предпринятой политике планомерного обращения аборигенного населения в православную веру; другая часть инородцев стала со временем называться бурятами; третья, несомненно малая в численном отношении часть тунгусов, несмотря на усилия государства, сохраняла свое исконное шаманское начало. Таким образом, очевидно, что насаждение православия определенной части тунгусского населения Нерчинского уезда привело к упрочению России на ее восточных рубежах, особенно на границе с Монголией и Китаем. При этом возникает ряд вопросов, связанных с уточнением этноязыковой принадлежности тунгусских генонимов, что позволит более определенно разрешить проблему этнического начала тунгусов Нерчинска.
Список литературы Вероисповедание и численно-родовой состав тунгусов урульгинской степной думы XIX в
- Василевич Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII -нач.XX вв.) Л., 1969.
- Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960.
- Туголуков В.А. Главнейшие этнонимы тунгусов (эвенков и эвенов)//Этнонимы. М., 1970.
- Туголуков В.А. Тунгусы и ламуты на северо-востоке Сибири//Этническая ономастика/отв. ред. Р.Ш. Джарылгасинова, В.А. Никонов. М., 1984.
- Туголуков В.А. Эвены//Этническая история народов Севера. М., 1982.
- Туров М.Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Сибири в конце XIX-нач. XX вв. (принципы освоения угодий). Иркутск, 1990.
- Уварова Т.Б. Нерчинские эвенки в XVIII-XX веках. -2-е изд. доп. М., 2006.
- Константинов А.В., Константинова Н.Н. История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 года). Чита, 2002.
- Свод законов Российской империи, дополненный по приложениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшим узаконениям 1911 и 1912 гг. Кн. первая, СПб, 1913. Т. 1-4.
- Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 1о. Оп. 1. Д. 17513.
- Восемнадцать степных законов. Памятник монгольского права XVI-XVII вв. СПб, 2002.
- ГАЗК. Ф. 1о. Оп. 1. Д. 17513.
- Жамсаранова Р.Г.Этнонимы тюрко-самодийского происхождения в топонимии Восточного Забайкалья (к вопросу об этнической принадлежности «конных тунгусов» Восточного Забайкалья)//Кулагинские чтения: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. Чита, 2006.
- Жамсаранова Р.Г. К вопросу об этнической принадлежности «конных тунгусов» Восточного Забайкалья (по материалам полевой летней практики)//Аспирант: тр. молодых ученых, аспирантов и студентов. Чита, 2006. № 1.
- Жамсаранова Р.Г. Погребальный обряд тунгусов Восточного Забайкалья (по материалам этнолингвистических экспедиций)//Древние и средневековые кочевники Центральной Азии: сб. науч. тр. Барнаул, 2008.
- Жамсаранова Р.Г. Этнонимы и генонимы хори-бурят: лингво-историческое исследование. Чита, 2009.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 48.
- Туголуков В.А. Конные тунгусы (этническая история и этногенез)//Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975.
- Цыдендамбаев Ц.Б. Бурятские исторические хроники и родословные (историко-лингвистическое исследование). Улан-Удэ, 1972.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 56.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 39.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 64.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 4.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 32.
- ГАЗК. Ф. 31. Оп. 4. Д. 48.
- ГАЗК. Ф. 55. Оп. 2. Д. 56.
- История Восточного Забайкалья. Читинская область: учеб.пособие/отв. ред. И.И. Кириллов. Иркутск, 2001.