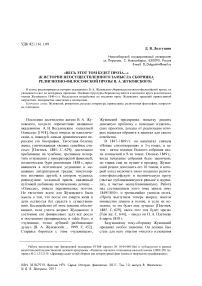«Весь этот том будет проза...» (к истории неосуществленного замысла сборника религиозно-философской прозы В. А. Жуковского)
Автор: Долгушин Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история задуманного В. А. Жуковским сборника религиозно-философской прозы, не увидевшего свет по цензурным причинам. Идейная структура сборника изучается в контексте круга религиозного чтения Жуковского 1840-х гг. Исследуется воздействие на позднюю прозу Жуковского традиций православной патристики, лютеранства, квиетизма и платонизма.
Жуковский, романтизм, русская литература, православие, религиозная философия, патристика, платонизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14737584
IDR: 14737584 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи «Весь этот том будет проза...» (к истории неосуществленного замысла сборника религиозно-философской прозы В. А. Жуковского)
Последнее десятилетие жизни В. А. Жуковского, когда-то опрометчиво названное академиком А. Н. Веселовским «идиллией Одиссеи» [1918], было отнюдь не идиллическим, а, пожалуй, самым драматическим периодом его биографии. Тягостная болезнь жены, уничтожавшая «всякое семейное счастье» [Плетнев, 1885. С. 629]; длительное пребывание на чужбине, грозившее испортить отношения с императорской фамилией; политические бури революции 1848 г., врывавшиеся в поэтическое уединение и мешавшие литературным трудам; эпистолярное молчание друзей, в котором чудилось равнодушие; холодный прием, оказанный публикой любимому поэтическому детищу – «Одиссее», тяжело переживались поэтом. Но тягостнее всего для Жуковского была мысль о том, что после его смерти жена и дети останутся без средств к существованию. Беспокойство об этом (вполне обоснованное, если учесть возраст Жуковского и состояние его финансовых дел) всё росло и постепенно превращалось в «idée fixe», в «чудовище, точно дубиной разбивающее душу» [В. А. Жуковский…, 1999. С. 452]. Стараясь бороться с этим «чудовищем»,
Жуковский предпринял попытку решить денежную проблему с помощью издательских проектов, доходы от реализации которых надеялся обратить в капитал для своего семейства.
В 1847–1849 гг. он напечатал сначала «Новые стихотворения» в 3-х томах, а затем – пятое издание Полного собрания своих сочинений в 9-ти томах. Осенью 1849 г., когда печатание собрания было закончено, но тираж еще не пущен в продажу, Жуковский решил дополнить его 10 томом, в который хотел включить свою позднюю религиозно-философскую и политическую прозу (частью публиковавшуюся раньше в журналах, а частью неопубликованную). Работа над составлением этого тома заняла зиму 1849/1850 г. и чрезвычайно увлекла поэта. «Проза выступила теперь вперед; многое множество планов в голове, и если их исполню, то это будет мое лучшее» [Плетнев, 1885. С. 629], «весь этот том будет проза» [Там же. С. 644], – писал он П. А. Плетневу 6 марта 1850 г.
Задуманному тому-сборнику Жуковский придавал особое значение. Он должен был стать для него опытом «чистого изложения мыслей и убеждений, собранных в течение жизни» [Плетнев, 1885. С. 687], предсмертным подведением итогов своего духовного пути. Кроме того, Жуковский рассчитывал, что включенные в сборник произведения сослужат добрую службу соотечественникам, особенно «начинающемуся поколению» [Там же. С. 686].
В конце июня 1850 г. материалы, предназначенные для 10 тома, были переданы в цензуру. Однако Жуковскому не пришлось увидеть их опубликованными. Через четыре месяца стало ясно, что том потерпел «цензурное кораблекрушение», и поэт со сдержанной горечью отказался от вдохновлявшего его замысла. Посмертная судьба религиозно-философской прозы Жуковского также не была слишком счастливой, и слова, сказанные о ней П. А. Плетневым в письме П. А. Вяземскому («она, бедная, ни в ком не возбудила к себе сочувствия»), можно поставить эпиграфом к истории ее публикации и изучения. До сих пор она остается недостаточно исследованной как в археографическом, так и в содержательном отношении. Лишь в самое последнее время стали выходить специальные труды, посвященные поздней прозе Жуковского, из которых прежде всего следует назвать работы И. А. Айзиковой [2004], И. Ю. Виницкого [2006], Ф. З. Кануновой [Канунова, Айзикова, 2001], а также комментированное издание дневников позднего Жуковского, осуществленное О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевичем [Жуковский, 2004].
Между тем эта проза является своего рода контрапунктом, в котором сходится многоголосье творчества первого русского романтика. Мотивы «поэтической философии» Жуковского 1810–1820-х гг. в ней переплетаются с мотивами его «христианской философии» 1840-х гг., диалог с друзьями и современниками (Н. В. Гоголем, П. А. Вяземским, И. Радовицем) – с диалогом с мыслителями прошлого (Б. Паскалем, Ж.-Ж. Руссо, И. В. Гете), отклики на бурные политические события – с откликами на прочитанные книги («Мысли» Паскаля, «О внутренней христианской жизни» Берньера-Лувиньи). Изучение корпуса поздней прозы Жуковского невозможно без исследования процессов циклизации в его творчестве, выявления типологии литературного сборника в культуре русского романтизма, а также без учета круга религиозного чтения поэта в 1840-х гг.
Наиболее активно в то время Жуковский знакомился с лютеранской теологией и экзегетикой. Это вполне понятно, поскольку, уехав за границу и женившись на Елизавете Рейтерн, он оказался в преимущественно лютеранской среде. Как видно из его дневника и записных книжек, Жуковский в 1840-е гг. внимательно, с выписками, прочитал некоторые сочинения Лютера (см. [Жуковский, 2004. С. 272, 284]) 1. Огромный интерес у него вызвали популярные комментарии к Новому Завету, вышедшие в 1835–1839 гг. под редакцией известного лютеранского пастора О. фон Герлаха (1801– 1849). В трехтомном издании Нового Завета [Das Neue Testament, 1835–1839] из библиотеки Жуковского эти комментарии буквально испещрены его пометами и подчеркиваниями (их чтение датируется 1841 и 1846 гг.). В 1848 г. Жуковский увлекся книгой лютеранского проповедника и экзегета Э. Р. Штира (1800–1862) «Речи Господа Иисуса» (в 6 т.). Для того чтобы лучше понять ее, он просил своего духовника священника Иоанна Базарова перевести греческие и древнееврейские слова, встречающиеся в этой книге, что тот и выполнил, написав русский перевод прямо в экземпляре Жуковского на полях или над строкой [Stier, 1843–1848]. Поэт предлагал Базарову переложить сочинение Штира на русский язык, а к самому Штиру проникся таким доверием, что был готов отдать на его суд решение вопроса о переходе своей жены из лютеранства в католичество или православие 2. Привлекла внимание Жуковского и знаменитая книга лютеранина И. Арндта «Об истинном христианстве» [Библиотека…, 1981. № 573], а также произведения многих других протестантских авторов.
Знакомился Жуковский и с сочинениями католических писателей. Среди них наибольший интерес у него вызывали те, которые принадлежали к таким «проблемным»
для католичества течениям XVII – начала XVIII в., как янсенизм (Паскаль) и квиетизм (Фенелон). Характерно в этом смысле внимание Жуковского к французскому мистику Берньеру-Лувиньи, сочинения которого несколько десятилетий числились в Индексе запрещенных книг из-за подозрения в квиетизме [Biographie universelle…, 1854. P. 81]. Поэт познакомился с его творчеством по небольшому сборнику выдержек из сочинений Лувиньи, издававшемуся на немецком языке под названием «О внутренней жизни со Христом в Боге» [Bernieres-Louvigny, 1842]. Он сделал перевод части предисловия этой книги 3, а свои читательские впечатления от нее положил в основу статьи «О внутренней христианской жизни».
Но более всего Жуковский в 1840-е гг. стремился познакомиться с православной богословской традицией. Возможности для этого в Германии были ограничены, и в библиотеке поэта мы найдем совсем немного духовных книг православных авторов. Тем не менее переписка Жуковского со свящ. Иоанном Базаровым, с А. С. Стурдзой показывает, что его интерес к изучению православного богословия на протяжении 1840-х гг. был весьма значительным. А. С. Стурдза в это время сделался для поэта постоянным консультантом и руководителем в изучении православной литературы. Он составлял и пересылал Жуковскому целые списки рекомендуемых к прочтению духовных книг. Собственные богословские работы Стурдзы, посвященные сопоставлению православия с протестантизмом и католичеством, были изучены Жуковским самым тщательным образом, о чем свидетельствуют многочисленные подчеркивания и маргиналии на их страницах [Stourdza, 1816; 1843; 1849].
Следует учитывать и те религиознофилософские течения, с которыми Жуковский непосредственно не соприкасался, но которые достигали его опосредованно. Так, например, традиция платонизма, мощно влиявшая на Жуковского в 1820–1830-е гг. через немецкий романтизм, и в 1840-е гг. остается важнейшим смысловым полем его творчества.
Таким образом, религиозно-философские взгляды Жуковского 1840-х гг. складывались на стыке разнородных влияний, в ситуации
«фронтира». Субъективной интенцией поэта было стремление к полному воцерковлению своей мысли, так, чтобы в его «христианских рассуждениях и тени несогласного с православием не встретилось» [Плетнев, 1885. С. 672]. Но в действительности все оказалось сложнее, и Жуковскому не всегда удавалось преодолеть инерцию платонической парадигмы или успешно перенести мысли западных авторов с «базы протестантизма на базу православия» [Переписка…, 1855. С. 17].
Все это указывает на многогранность темы о неосуществленном замысле Жуковского. В предлагаемой статье будет рассмотрен всего один ее аспект – взаимодействие перечисленных религиозно-философских традиций в его поздней прозе (в силу ограниченности объема речь пойдет только о религиозно-философской прозе, тесно связанная с ней политическая останется за пределами нашего рассмотрения).
Каким был состав задуманного Жуковским сборника? Ответить на этот вопрос позволяют как архивные, так и опубликованные материалы. В частности, П. А. Плетнев, помогавший поэту в работе над изданием, в одном из писем Жуковскому перечисляет переданные в цензуру рукописи, предназначавшиеся для сборника, следующим образом: 1) «Русская и английская политика»; 2) «Философический язык»; 3) «Аксиомы»; 4) «Истина» (И) 4; 5) «Наука»; 6) «О меланхолии в жизни и поэзии» (М); 7) «Письма к Гоголю» («О смерти» (С), «О молитве» (ОМ), «Слова поэта – дела поэта» (П)); 8) «Две сцены из “Фауста”» (Ф); 9) «Нечто о привидениях» (НП); 10) «Воспоминание»; 11) «Идея бытия»; <12) «Свобода»; 13) «Твердость и упрямство»; 14) «Благотворение»; 15) «Несчастие»; 16) «Надежда»; 17) «Случай» 5>; 18) «История и историческая живопись»; 19) «Что такое воспитание?»; 20) «Искусство»; 21) «Что будет? Писано в январе 1848 г.»; 22) «К графу Ш. о происшествиях 1848 г.»; 23) «Письмо к кн. П. А. Вя- земскому об его стихотворении “Святая Русь”»; 24) «О смертной казни» (СК); 25) «Теория и практика»; 26) «Энтузиазм и Энтузиасты»; 27) «Иосиф Радовиц»; 28) «О внутренней христианской жизни» (ВЖ); 29) «Промысел, Испытание» и пр.; 30) «Закон, Грех»; 31) «Плоть, Дух» (ПД); 32) «Вера» (В); 33) «Причащение Св. Таин» [Плетнев, 1885. С. 703–704].
Как видим, материалы, включенные Жуковским в сборник, разнообразны и в тематическом, и в жанровом отношении. Тем не менее он рассматривал их как цикл, как целостную систему. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в ОР РНБ черновые наброски, в которых поэт тщательно и продуманно выстраивает структуру тома и то, что, имея разрешение публиковать ранее издававшиеся произведения без повторной цензуры, Жуковский все же послал на цензурование весь сборник, не исключая и своих старых статей, – именно потому, что относился к нему как к единому целому.
Что же придает единство задуманному Жуковским тому? В первом приближении на этот вопрос можно ответить так: единая модальность, единый ракурс, в котором рассматриваются все затронутые в нем темы, и ракурс этот – религиозно-философский. Его поздняя проза – это проза религиознофилософская par excellence. Следовательно, чтобы ответить на вопрос о том, что придает ей системность, нужно выявить системность его религиозного мировоззрения 1840-х гг.
В основе всякого религиозного мировоззрения, если использовать термин М. Элиаде, лежит оппозиция профанного (мирского) и сакрального. Религиозность есть стремление к их соединению, она рождается из чувства присутствия сакрального, которое испытывает живущий в профанном мире человек. Тот же строй дефиниций можно развернуть и в антропологической перспективе, как это сделал, например, В. И. Не-смелов.
Несмелов пишет о «загадке человека», которая состоит в том, что «по самой природе своей личности человек необходимо изображает собой безусловную сущность и в то же самое время действительно существует как простая вещь физического мира» [2000. С. 229]. Эта «реальная противоположность условного и безусловного» в человеке составляет «загадку бытия». Ощущая себя разумно-свободной личностью, чело- век, тем не менее, обнаруживает в себе и вокруг себя такие условия, которые не совместимы с подобным бытийственным статусом. Религия и рождается из стремления найти выход из этого противоречия, транс-цендировать условное в безусловное.
Сформулированная В. И. Несмеловым «загадка бытия» была известна Жуковскому с ранней юности. Он остро ощущал «идеальное», «безусловное» измерение человеческой души, ее «небесную» природу, и столь же остро ощущал неблагополучие и зло земного мира. Особенно сильным это ощущение стало после неудачного сватовства Жуковского к Маше Протасовой, семейную жизнь с которой поэт в своих мечтах видел пристанищем небесного на земле. Глубокие и болезненные переживания, вызванные этой сердечной историей, резонировали у Жуковского с усвоенными им в Московском Благородном пансионе традициями элегической школы, с сентиментали-стской меланхолией и воспринятым от немецких романтиков чувством двоемирия – экзистенциального разлома между небесным и земным.
Земной мир открылся ему как юдоль скорби, неспособная превратиться в обитель радости, как реальность, у которой есть три фундаментальных предиката: временность («тленность»), страдание и смерть. Временность уносит в своем быстротекущем потоке мгновения «счастия», испытанные «прекрасными душами» в общении друг с другом, страдание мучит их, а смерть приводит к их невозвратимой утрате. Жуковский пытается научиться существовать посреди этого вихря «бытия-к-смерти». Задачку об условном и безусловном он пытается решить с помощью обобщающих аллегорий – «фонарной теории», «философии Лаллы Рук» (см.: [Долгушин, 2008. С. 411– 412]). Эти аллегории становились для Жуковского средством философствования и авторефлексии. Они не давали рецептов полной победы над временностью, страданием и смертью, но они смягчали горечь отчаяния, в которое могла бы прийти томящаяся в темнице земли душа. Однако во второй половине 1830-х гг. переживание губительной силы временности, страдания и смерти у Жуковского значительно возрастает. В его творчестве появляется новая обобщающая аллегория – жутковатый образ Судьбы-великана со свинцовыми ногами, которому нужно со стоическим мужеством отчаяния смотреть в глаза, иначе «будешь затоптан в грязи» (см.: [Реморова, 1978. С. 205–206]).
Имея такой богатый и изощренный опыт переживаний земного мира как «бытия-к-смерти», Жуковский мог в своей программной статье 1840-х гг. «О меланхолии в жизни и поэзии» со знанием дела описывать основанное на нем античное мироощущение. Считая главным элементом этого мироощущения меланхолию, он характеризует ее не как светлое, а как самое мрачное «чувство, охватывающее душу от ожидания утраты неотвратимой и безвозвратной». Меланхолия появляется в душе, когда она живет в мире без веры, где нет ничего вечного, все переменчиво и текуче, где «смерть есть потеря всего», нависающая, как Дамоклов меч, над судорожно пытающимся схватить мгновения бытия человеком. Она, как молчаливый часовой, поджидает на границе здешнего мира, чтобы погрузить душу в призрачное существование Аида. Меланхолия – это трепет души, «заколаемой» неумолимой рукой времени, марево отчаяния, повисшее над солнечными Грецией и Римом, или, лучше сказать, само их солнце – это призрак, фантазия, которой пытаются обмануть себя отравленные и испуганные ядовитыми испарениями меланхолии люди. Ни воспоминание, ни чистые мгновения эстетического наслаждения не в силах исцелить мир от меланхолии. Спасти от меланхолии – а значит, от временности, страдания и смерти – может только христианство.
Спасительная сила христианства состоит в том, что оно «разоблачило перед человеком его высокую природу и возвеличило человеческую душу» (М, 247), «усилило в нас все душевное» (М, 247). В античности человек весь был погружен во внешний мир, где «все прельщает и гибнет» (М, 247), в водоворот хроноса. Христианство же «обратило нас во внутренний мир души нашей» (М, 247), где все неизменно, где нет утрат, ибо душа бессмертна, а это значит, «что все наше драгоценное, все, существенно душе нашей принадлежащее, застраховано на уплату по смерти, в ином мире» (М, 247). Тем самым христианство победило непобедимое – временность, страдание и смерть. «Религия христианская заговорила несчастие» (М, 249). В христианстве страдание – это не мрачное и бессмысленное мучение, это – Богоявление: «ценою бедствия покупаем мы лицезрение Бога» (С, 215), в несчастии «Он Сам нас находит, Он Сам становится к нам лицом к лицу» (С, 215). И страдание лишается своей губительной силы: как испытание оно, по немощи человеческой, печально, но как встреча с Богом оно радостно.
Еще удивительнее, чем страдание, преображаются в свете христианства временность и смерть. В своей поздней прозе Жуковский снова и снова возвращается к теме смерти. Ей посвящена специальная статья – «О смерти» (письмо к Н. В. Гоголю), она находится в центре внимания в таких статьях, как «Нечто о привидениях», «Две сцены из “Фауста”», «О смертной казни», «О меланхолии в жизни и поэзии», во многих отрывках. Это неслучайно: ведь смерть является верховным и самым очевидным выражением неблагополучия земного мира. Однако христианство и ее лишает губительной силы. Если душа бессмертна, рассуждает Жуковский, то смерть для нее – не зло, а благо. В своих статьях Жуковский рисует портрет «идеальной смерти» – «чистой, умилительной, девственной». «Чистые ангелы своими руками уготовляют и святят» (Ф, 272) место казни Маргариты из «Фауста»; так же, «ангельски», нужно приготовлять и место казни каждого приговоренного к смерти (СК). Смерть, в некотором роде, спасительница, она освобождает душу от всего случайного, наносного. Статью «О привидениях» Жуковский заканчивает настоящим гимном смерти: «Что же такое смерть? Свобода, положительная свобода, свобода души: ее полное самоузнание с сохранением всего, что ей дала временная жизнь и что ее здесь довершило до жизни вечной, с отпадением от нее всего, что не принадлежит ее существу, что было одним переходным, для нее испытательным, по своей натуре ничтожным здешним ее достоянием» (НП, 243).
Во всей этой танатологии легко обнаружить платонические черты. Тело (как и все материальное) воспринимается Жуковским вполне в духе платоновской традиции как «темница, в которой заключен и заточен павший дух» [Флоровский, 1998. С. 418]. Поэтому смерть, т. е. освобождение из этой темницы, сама по себе есть уже спасение и исцеление. Для Жуковского христианство – это прежде всего благовестие о бессмертии души, а не о воскресении тела.
В то же время нельзя сказать, что Жуковский полностью уклоняется в платонизм. Скорее нужно вести речь о «душевной чересполосице» 6, о переплетении ряда платонических и ряда христианских интуиций. Особенно это заметно в его антропологических рассуждениях. Так, в отрывке «Плоть – дух» Жуковский развивает антропологию, которую нетрудно согласовать со святоотеческой. Он пишет о целостной трехсостав-ности человека, состоящего из духа, души и тела. Дух – «это чисто божественное в человеческом», орган веры, соединяющий с Богом, «царствующая, самобытная часть человека; душа – посредник между духом и телом; тело – само по себе нечто безжизненное, материальное, подчиненное» (ПД, 296). Иерархия духа, души и тела динамична, она не дана раз и навсегда, но зависит от свободы человека, призванного произвольно «сохранять духовность души своей» (ПД, 296), т.е. первенство духа. Совершив грех, человек нарушил это первенство, разрушил правильную иерархию. Душа вышла из послушания духу, подчинилась телу, попала в зависимость от него, «сия зависимость есть то, что мы называем плотию » (ПД, 296). «Тело до падения чистое, по своей испорченности от падения сделалось главным врагом души человеческой» (ПД, 296). Таким образом, душа может быть духовной, но может и утерять дух, стать «плотью».
Подобный же взгляд на человека мы находим в византийской патристике. Большинство ее представителей также следуют павловой трихотомии (1Фес. 5, 23), описывая человека как единство духа, души и тела. Начиная с IV в. вместо слова «дух» (πνεῦμα) византийские писатели часто употребляют термин «ум» (νοῦϛ), заимствованный из греческой философии через посредство Оригена и Евагрия, обозначая им «владычествен-ное» (ήγεμονικóν) в человеке. Освобождая этот термин от платоничеких коннотаций оригенизма, преп. Максим Исповедник характеризовал ум (νοῦϛ) не столько, «как “часть человека”, сколько, как 1) способность, которой обладает человек затем, чтобы превзойти себя ради участия в Боге; 2) единство сложной природы человека пе- ред его конечным предназначением в Боге и в мире; 3) свобода человека, которая может либо полностью раскрыться, обретя Бога, либо же стать ущербной, подчинившись телу» [Мейендорф, 2001. С. 204] 7.
Трактовка духа в отрывке «Плоть-дух» если и не совпадает, то и не противоречит такому пониманию. Жуковский, как и преп. Максим, считает дух тем началом, с помощью которого человек соединяется с Богом; он так же, как и преп. Максим, считает, что зло в человеке не субстанциально и связано не с телом самим по себе, а с уклонением воли, приводящей душу к утрате духа. Мысль Жуковского о нарушении иерархии духа, души и тела как следствии грехопадения также вполне органична для патристической традиции [Лосский, 1991. С. 98].
Но наряду с этим у Жуковского встречаются рассуждения, близкие платонизму. Так, он настойчиво употребляет выражения типа «душа по натуре своей божественна» (ПД, 296), душа «по существу своему» «однородна» с Богом (ОМ, 224), «природа человека – свободный божественный дух, облеченный в тело», душа «непосредственно истекает из Бога» (ВЖ, 275) и т. п.
Подобные высказывания, в которых постулируется единосущность человеческой души с Богом, конечно, чужды патристике. Хотя у св. Григория Богослова можно найти слова о том, что «душа есть Божие дыхание», «Божественная частица», эти выражения (как и высказывание св. Иринея Лионского о том, что человек состоит из тела, души и Святого Духа) нужно понимать в соответствии с контекстом не как утверждения о божественности человеческой природы, но как утверждения о причастности человека благодати, влекущей его горé.
В платонизме же душа человека трактуется как «Божественная частица» не в переносном, а в прямом смысле слова – не сотворенная ex nihilo, но истекшая, эмани-ровавшая, из Единого. Впрочем, и материю, и тело, неоплатоники тоже считали эманацией Единого, только более низкой в иерархии бытия, чем душа. «Эта “низкая природа”, тело и плоть, дебелое и грубое вещество» [Флоровский, 1998. С. 420] и считалось ими источником зла. Поэтому, с их точки зрения, чтобы спастись, душе достаточно освободиться от власти плоти, стряхнуть с себя скверну телесности. Окончательным освобождением является смерть, которая воспринимается как абсолютное благо для души.
Именно на такое понимание сбивается подчас Жуковский. И в статьях «О меланхолии в жизни и поэзии», «Нечто о приведениях», «Две сцены из “Фауста”» платонический пафос победы над смертью через освобождение бессмертной души от смертного тела преобладает над христианским пафосом победы над смертью через воскресение душ и телес. Аксиологическая грань для Жуковского в этих статьях проходит по линии материальное – духовное, а не по линии тварное – нетварное или святое – греховное. Подчас кажется, что Жуковский считает: что духовно (нематериально), то уже свято, что материально – то уже греховно. В этом смысле показательно рассуждение в статье «Нечто о привидениях». Жуковский использует в нем свой любимый символ «таинственной завесы», отделяющей нас от иного мира. Иногда сквозь эту завесу, говорит он, проникают лучи света – «явления духов, непостижимые рассудку нашему» (НП, 340). Эти привидения пугают нас своей иноприродностью, чуждостью, необычностью, хотя должны бы радовать – как «явление друга из страны далекой, как весть желанная». Странно, что «поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских» как будто забывает, что из-за этой завесы, из мира духов, может появиться совсем не друг...
В этой статье для него духовный мир однороден, соприроден Божеству и потому по определению благ. Теперь понятно, почему Жуковский поэтизирует и идеализирует смерть, создает своего рода танатодицею. Но с точки зрения православной патристики смерть, конечно, не является способом спасения души от тела, она является скорее метафизической катастрофой, болезненным и недолжным, хотя из-за повреждения человеческой природы и неизбежным, разрывом душевно-телесного единства. Бессмертие души с этой точки зрения не побеждает смерти потому, что есть «смерть вторая» – не разлучение души с телом, но отделение души от Бога по причине греха, который является «вечной смертью бессмертной души» [Мейендорф, 1997. С. 179]. Жуковский не понял слов П. А. Вяземского: «„.у нас, напротив: смерть начало всего! Тут поневоле призадумаешься» (М, 251). Вяземский имел в виду посмертный суд и воздаяние, но Жуковский возражал ему: «…всё, что душа - нетленно, всё жизнь вечная» (М, 251). Однако правильно было бы сказать не «всё жизнь вечная», но «всё бытие вечное», а будет это бытие в жизни или бытие в смерти – зависит от состояния души, обусловленного ее нравственным выбором, а не духовной природой.
Итак, на примере танатологии и антропологии Жуковского мы видим, что онтологический разрыв между Богом и душой в некоторых, «платонизированных», его рассуждениях оказывается затемнен, сглажен. То же самое можно обнаружить, анализируя его метафизику.
Метафизических проблем Жуковский касается, размышляя над проблемой «что такое Слово?» в статье «Две сцены из “Фауста”». Здесь, толкуя первый стих Евангелия от Иоанна, он развивает концепцию Божьего Слова как вместилища всех возможных человеческих слов. Выражения, которые при этом использует Жуковский, называя Слово Божие «творением», «имевшим начало», «истекшим из воли Бога» (Ф, 207), если их рассматривать в обычном для экзегезы Ин. 1, 1 триадологическом контексте, являются вопиющим «арианизмом», на что С. П. Шевырев еще в 1849 г. указывал поэту [Барсуков, 1888–1901. Кн. 9. С. 382]. Но поскольку Жуковского нелепо считать ариани-ном, скорее всего, речь у него идет не об отношениях Первого и Второго Лиц Пресвятой Троицы, а о предсуществовании мира в Божественном Логосе. Именно так понял это место прот. Феодор Голубинский, цензуровавший статью «Две сцены из “Фауста”» перед публикацией в «Москвитянине». Он считал, что Жуковский здесь «говорит о вечном Слове в смысле Платона и Плотина, и разумеет едва ли не то, что у них κόσμοϛ νοητόϛ, τόποϛ (или πλήρωμα) τῶν ιδεῶν, и в этом смысле мог написать “творение”» [Там же. С. 384].
Концепция κόσμοϛ νοητόϛ – «умного мира», о которой пишет Голубинский, имеет давнюю традицию. Она возникла первоначально у Платона, понимавшего «умный мир» как место пребывания неизменных, безличных идей. Филон отождествил этот мир идей с Логосом, посредством которого
Бог творит мироздание. Плотин также учил, что Логос (начало, посредствующее между Умом и космосом) вмещает в себя «малые логосы» (λόγοι) – «индивидуальные души и наделяющие тела формой принципы» [Армстронг, 2003. С. 210]. С христианской точки зрения учение об «умном мире» таило в себе опасность пантеизма, размывало онтологическую грань между Творцом и тварью, а также грозило принизить статус земного мира как вторичного (а значит, неполноценного) по отношению к миру идеальному. Поэтому рецепция данной терминологии в церковное богословие происходила достаточно долго и трудно. Завершилась она в трудах преп. Максима Исповедника, который трактовал содержащиеся в Божественном Слове-Логосе малые слова-логосы как «решения воли Божией» [Мейендорф, 2001. С. 192], как «Божественные идеи, хотения» [Епифанович, 1996. С. 65], как предвечный замысел Творца о мире. Таким образом преп. Максим, выразив учение о причастности космоса трансцендентному Богу, в то же время отверг платоническое учение о предсуществовании «умного мира» в существе Божества. Однако это преодоленное в патристике учение на протяжении столетий находило последователей, развивавших многообразные концепции о Боге как «всеединстве», ἕν πάντα, ἕν και παν – от Николая Кузанского до Шеллинга и Вл. Соловьева.
Рассуждения Жуковского, пожалуй, близки именно этой традиции. Его мысль о том, что слова человеческие «суть не иное что, как атомы всеобъемлющего Божия Слова» (Ф, 270), означает отрицание соразмерности, но признание соприродности человека и Божества. Как и в статье «Слова поэта – дела поэта» (П, 228), эта мысль ставит Жуковского на грань утверждения о создании Богом мира ex se, а не творении его ex nihilo. Жуковский поясняет свою мысль с помощью «гиероглифического» образа «круга, центр которого везде, а окружность нигде». В этом символе, считает он, «нам таинственно и очевидно выражается и существо Бога (вечного слова) и отношение к Нему разума человеческого» (Ф, 270). Данный образ заимствован Жуковским из «Мыслей» Паскаля, а именно из раздела «Несоразмерность человека» 8. Любопытно, однако, ка- кую трансформацию претерпевает он в процессе заимствования: Паскаль прилагает его к миру, а Жуковский – к Богу, что придает этому образу пантеистический оттенок.
Еще одна религиозно-философская тема, к которой Жуковский постоянно обращается в своей поздней прозе – это тема веры. Раскрывая ее, он настойчиво противопоставляет веру разуму. В статье «Слова поэта – дела поэта» Жуковский пишет, что разум является низшей, а вера – высшей способностью души. Всего способностей четыре, и в порядке иерархического возрастания они располагаются так: 1) ум; 2) воля; 3) творчество; 4) вера. Выше та способность, в которой сильнее проявляется самобытность, свобода человека. В уме нет никакой свободы, он движется по рельсам логики и не волен свернуть с них ни направо, ни налево. В воле свобода есть, но действует кратко, только в момент нравственного выбора. В творчестве действие свободы становится более продолжительным. Но все же ни одна способность души по степени свободы не может сравниться с верой.
Вера – это самый свободный акт, который способен совершить человек, акт произвольного самоотвержения. Она – «величайший дар благодати», дающийся только тем, кто «произвольно и покорно протягивает руку» для его принятия. Ценность веры именно в ее свободе. Поэтому-то она и принципиально противоположна разуму, который, как указывалось выше, лишен свободы. Поэтому следование разуму – смерть веры, «вероубийство» (НП, 341). «Там нет веры, где есть очевидность или умственное убеждение», «иначе нельзя поверить, как произвольно» (В, 290). «Бытие Бога не может быть доказано» (И, 288), ведь оно принимается не разумом, а верой. «Эта вера есть верховное действие нашей свободы.
порождаем лишь атомы в сравнении с действительностью вещей. Это бесконечная сфера, центр которой везде, окружность – нигде» [Паскаль, 1995. С. 132]. Этот образ был известен и до Паскаля. Как известно, он восходит к рассуждениям Плотина, сравнивающего Ум с кругом, «который касается центра всей своей окружностью», а Единое – с центром этого круга (Эннеады VI, 8, 18). Сходно с Жуковским данный образ использует близкий платонизму Григорий Сковорода, когда в «Диалоге пяти путников об истинном счастии в жизни» говорит о Боге как о «вечно существующей силе, которая везде имеет свой центр, или среднюю главнейшую точку, а края своего – нигде, так как шар, которым та сила живописно изображается: кто как не Бог?» [Сковорода, 1999. С. 94].
Она для всех обязатальна, но мы ее принимаем произвольно, мимо рассудка, который перед нею смиряется, не поверяет ее, не доказывает ее откровения, а только согласно с своим назначением приспосабливает к ней все земное, его управлению подчиненное» (В, 291).
Такое категоричное противопоставление веры и разума созвучно мыслям столь любимого Жуковским Берньера-Лувиньи, главная книга которого начинается со следующего рассуждения: «Никто никогда не достигал совершенства, следуя одному разуму человеческому: он есть свет философов; вера же – свет христиан. Эта вера учит нас отказываться от всех соображений человеческого благоразумия, чтобы следовать в совершенной простоте Иисусу распятому» [Bernieres-Louvigny, 1781. P. 1]. Лувиньи недаром был в свое время заподозрен в квиетизме. Его акцент на вере и нарочитое отвержение разума было характерно именно для этого религиозного течения. Но квиетизм (как и янсенизм) типологически родственен протестантизму [Омэнн, 1994], поэтому и произведения Лувиньи получили широкое хождение в протестантской среде (Жуковский читал их как раз в протестантском издании). Те же, что и у Жуковского, мысли о вере как безусловной и сверхразумной «покорности без разбора, умствований и ропота» (ВЖ, 275) можно в большом количестве найти у Лютера. Возможно, именно лютеровское sola fide (не в качестве сотериологической концепции, а в качестве общей экзистенциальной интенции) оказалось близко первому русскому романтику, как позже оно окажется близко Л. Шестову. По крайней мере, рассуждения Жуковского в статье «О молитве» напоминают рассуждения Лютера в третьей части «Большого катехизиса», которая называется так же – «О молитве» [Книга согласия…, 1998. С. 525–529].
Между тем для православной богословской традиции лютеровское радикальное противопоставление веры и разума было несвойственно, и поэтому акцент, сделанный Жуковским на этом противопоставлении, вызывал критику православных богословов. Так, знаменитый догматист и церковный историк Макарий (Булгаков), епископ Винницкий, 2 января 1854 г. писал К. С. Сербиновичу, пославшему ему на прочтение религиозно-философские отрывки Жуковского перед их публикацией в «Журнале министерства народного просвещения»
[Жуковский, 1854. С. 1–9]: «Имею честь возвратить Вашему Прево сходительству статью В. А. Жуковского. Некоторые неточности в ней я старался исправить на стороне карандашом. Особенно я хотел смягчить мысль, будто ум наш без откровения нисколько не может познать Бога, даже его бытия. Будучи, по-видимому, благоприятна Откровению, мысль эта противна ему (Рим. 1, 19–20), противна и учению св. отцев, которые обыкновенно говорили: “что Бог есть или существует, – мы знаем; а что такое Он есть по существу, – вполне непостигаемо”, и может вести даже к пагубным следствиям для самого Откровения. Впрочем, в теперешнем виде статья, кажется, может быть напечатана» 9.
Таким образом, мы видим, что идейный облик задуманного Жуковским сборника поздней прозы в религиозно-философском отношении определялся комплексом сложно взаимодействовавших друг с другом влияний. Влияние православной богословской традиции, которую сам поэт хотел сделать для себя магистральной, сочеталось с воздействием идей лютеранской теологии и мистики квиетизма, а также ряда глубоко усвоенных первым русским романтиком платонических интуиций. Соприкасаясь через круг религиозного чтения с этими духовными традициями, Жуковский развивал свою «христианскую философию», манифестом которой и должен был стать так и не увидевший свет сборник его религиознофилософской и политической прозы, 10-й том собрания его сочинений.