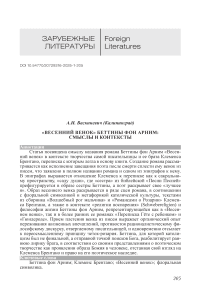«Весенний венок» Беттины фон Арним: смыслы и контексты
Автор: Васкиневич А.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена смыслу названия романа Беттины фон Арним «Весенний венок» в контексте творчества самой писательницы и ее брата Клеменса Брентано, переписка с которым легла в основу книги. Создание романа рассматривается как исполнение завещания поэта после смерти сплести ему венок из писем, что заявлено в полном названии романа и одном из эпиграфов к нему. В эпиграфах выражается отношение Клеменса к переписке как к сакральному пространству, «саду души», где «сестра» из библейской «Песни Песней» префигурируется в образе сестры Беттины, а поэт раскрывает свое «лучшее я». Образ весеннего венка раскрывается в ряде сцен романа, в соотношении с флоральной символикой и метафорикой католической культуры, текстами из сборника «Волшебный рог мальчика» и «Романсами о Розарии» Клеменса Брентано, а также в контексте «религии воспарения» (Schwebereligion) и философии жизни Беттины фон Арним, репрезентирующейся как в «Весеннем венке», так и в более ранних ее романах «Переписка Гёте с ребенком» и «Гюндероде». Прием плетения венка из писем выражает органический опыт переживания жизненных впечатлений, противостоя рационалистическому философскому дискурсу, отвергаемому писательницей, и одновременно отсылает к переосмысленному принципу четок розария. Беттина, для которой католицизм был не финальной, а отправной точкой поисков Бога, реабилитирует раннюю лирику брата, в соответствии со своими представлениями о поэтическом творчестве как проявлении образа Божия в человеке, отстаивая свой взгляд на Клеменса Брентано и право на его поэтическое наследие.
Беттина фон арним, клеменс брентано, «весенний венок», весенний венок, флоральная символика
Короткий адрес: https://sciup.org/149147777
IDR: 149147777 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-205
Текст научной статьи «Весенний венок» Беттины фон Арним: смыслы и контексты
Bettina von Arnim; Clemens Brentano; Spring Wreath; Frühlingskranz; floral symbolism.
Название эпистолярного романа Беттины фон Арним, посвященного ее брату Клеменсу Брентано, полностью в оригинале звучит так: «Clemens Brentano’s Frühlingskranz aus Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schrift-lich verlangte». На первый взгляд в названии нет ничего особенного и перевести его можно, например, следующим образом: «Весенний венок Клеменса Брентано, сплетенный ему из юношеских писем, как он сам того желал» (здесь и далее перевод мой – А.В.). Образ весеннего венка, сплетенного из юношеских писем порождает ассоциации с радостной жизнью, беззаботной молодостью, идиллическую картину, отчасти отсылающую к пасторальной традиции. Фло-ральный образ весеннего венка связан с пробуждением природы, началом цветения. Заложен ли в книге Беттины этот смысл? Да, несомненно, это эпистолярный роман о молодых людях, брате и сестре, открывающих для себя мир. В одном из стихотворений Брентано из «Весеннего венка» идет речь о «саде жизни без границ», в который вечно возвращается весна [Arnim 1959–1963, I, 171]. Этот смысл кажется настолько очевидным, что даже В.М. Жирмунский, один из наиболее тонко понимавших поэзию Клеменса Брентано исследователей, переносит название романа Беттины на раннее творчество ее брата, озаглавливая первые три главы второй части своего фундаментального исследования творчества Клеменса Брентано и гейдельбергского романтизма, соот- ветственно, «Письма «Весеннего Венка», «Лирика «Весеннего Венка» и «Романтическая идеология «Весеннего Венка», подразумевая период 1800–1803 годов [Жирмунский 1919]. Но можно ли понимать «Весенний венок» Беттины фон Арним только как отражение раннего мировоззрения и творчества Брентано или вообще как такое отражение? Представляется, что не вполне. С одной стороны, ранее творчество поэта действительно во многом реконструируется именно по этой книге, из-за утраты большой части первоисточников, легших в ее основу [Becker-Cantarino 2019, 418–419]. Но хотела ли сама Беттина фон Арним в 1844 г., после смерти брата (он умер в 1842), представить именно ранний период его творчества? Или замысел ее был иным?
«Переполох в церкви и ликование о пойманных венках!»
Как известно, Клеменс после религиозного перелома занял критическую позицию по отношению к своему светскому творчеству. В.М. Жирмунский описал этот феномен как «религиозное отречение» [Жирмунский 1919]. Беттина видела брата иначе. Она считала, что он и в поздние годы оставался таким же, каким был смолоду, поэтому, несмотря на возражения родственников, она реабилитирует его раннее творчество [Becker-Cantarino 2019, 60]. Барбара Бекер-Кантарино, приводящая в справочнике по жизни и творчеству Беттины фон Арним ряд документов, касающихся истории создания романа, отмечает, что в «Весеннем венке» Беттина представила « свой взгляд на жизнь и творчество поэта Клеменса Брентано», нарушающий издательскую монополию его брата Кристиана, что вызвало неудовольствие в семье. Кристиан и Франц от имени всего семейства Брентано просили ее пощадить память благочестивого брата-католика [Becker-Cantarino 2019, 59, 418]. В «Весеннем венке», действительно, есть места, способные смутить человека с традиционными религиозными представлениями. Так, в одном из писем брату Беттина пересказывает свое видение, посетившее ее в церкви на Троицу, когда «каплан всё еще кормил как троицкий голубок из своего зоба общину Святым Духом». Тут «видение наколдовало Клеменса, внезапно влетевшего огненным галопом из-за абасона вместо голубя в церковь! Проповедник за кафедрой окаменел, певшая община умолкла, а великолепный Клеменс на своем Пегасе несся, как английский всадник, выделывая чудесные искусные виражи на своем крылатом коне, и на облаках, служивших великолепному скакуну танцевальной площадкой, с одного облака на другое парили прекрасные венки из роз (schwebten wunderschöne Rosenkränze), и цвели, и благоухали всё прекрасней, и люди забыли про молитвы, все ловили венки, вот это был из-за тебя переполох в церкви и ликование о пойманных венках!» [Arnim 1959–1963, I, 43].
Образ поэта, из-за которого люди перестают молиться, вполне может показаться кощунственным. Сцена явления Клеменса отсылает к «Деяниям святых Апостолов»: поэт, занимающий в видении место Святого Духа, с огненным шумом («огненным галопом») слетает с неба к собравшимся в церкви людям вместо голубя, как Дух Святой сходил языками пламени на апостолов (Деян. 2: 1-3). Цветочные венки, которые ловят люди, тоже связаны с праздником Тро-ицы/Пятидесятницы (различия этих праздников в католицизме в данном контексте несущественны), традиция использовать их как украшение на праздник сошествия Святого Духа отражена, например, в «Дневнике прародительницы» из «Сказки о Гокеле, Хинкель и Гаккелее» Брентано, опубликованной в 1838 году, при жизни писателя [Brentano 2002, 853–855]. Венки из роз могут отсы- лать к «Романсам о Розовом венке», или «Романсам о Розарии» («Romanzen vom Rosenkranz») Клеменса Брентано, над которыми он уже работал в 1802– 1803 гг. [Pravida 2005, 26–38]. В письме Беттине от февраля 1803 г., не вошедшем в роман, Клеменс упоминает, что его радует, что ей нравится «Розовый венок» (Daß dir der Rosenkranz gefällt ist mir lieb) [Härtl 2022, 34]. «Романсы о Розарии» основываются на католической образности, девушки, носящие имена, связанные с розами – Розароза, Розадора и Розабланка – искупают родовой грех, история их жизни сплетается в венок и образует молитвенные четки – это еще одно значение слова Rosenkranz. Дитмар Правида указывает на то, что одним из источников этой идеи была легенда о возникновении четок-Розария из «Пассионаля» XIII в. [Pravida 2005, 253–254]. Она повествует о ленивом студенте, плохо учившемся, но имевшем привычку каждый день бегать на луг, собирать цветы и плести из них венок, которым он украшал образ Богородицы. В итоге он становится монахом, и однажды ему является чудесное видение: Дева Мария срывает с его уст молитвы, превращающиеся в розы, плетет себе из них венок и украшает им свою главу [Pfeifer 1863, 151–170]. Во вступительных терцинах к «Романсам о Розарии» Брентано также стилизует свою жизнь под легенду о чуде Богородицы, описывая, как услышал в церкви слова антифона «Славься, Царица» («Salve Regina»), словно обращенные именно к нему, называющие его по имени: «O Clemens» (игра слов: Клеменс, имя поэта, и clemens как эпитет, относящийся к Богородице – лат. «милосердная, милостивая, кроткая»), и с тех пор каждый раз, когда он слышал, как кто-то его зовет, произносил молитву Богородице [Brentano 1975-, X, 9]. Такое отождествление себя с Девой Марией (а Брентано, стилизуя свой образ, также изменил дату рождения, сместив ее на день Рождества Богородицы, и взял псевдоним Мария [Аверинцев 1985, 11–12]), тоже может показаться кощунственным. В поздние годы Клеменс Брентано объявил свои «Романсы о Розарии» «накрашенными надушенными туалетными грехами нехристианской юности» и отказывался их печатать [Brentano 1975–, XXXV, 249]. Опубликованы они были только в 1852 г., и читателям романа Беттины, за исключением круга родственников и друзей, были еще неизвестны. Однако принцип нанизывания писем-цветов на нить повествования в романе Беттины вполне может восходить к образу плетения венка из роз, становящегося четками.
Но что означает образ Клеменса, врывающегося в церковь на Пегасе, и почему Беттина транслирует его в 1844 г.? Обратим внимание: действие происходит на Троицу, и в церкви читается проповедь о Святом Духе – и эта проповедь оказывается скучной! Скучным оказывается слово о Духе, который животворит (Ин. 6: 63, 2 Кор. 3: 6), что для Беттины совершенно немыслимо. «Вся жизнь – это пламя творящего Духа» [Arnim 1959–1963, I, 183], – восклицает она в одном из писем «Весеннего венка», а в другом, описывая деятельность духа, использует растительную метафорику: он растет, и цветет, и приносит плод [Arnim 1959–1963, I, 208]. Поскольку проповедь совсем не похожа на картину сошествия Святого Духа на Апостолов, Беттина – оставаясь и в этом верной «Деяниям святых Апостолов» – воспроизводит ее в видении (ср. «и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения», Деян. 2: 17), вызывающем смятение и ликование в народе (ср. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение», Деян. 2: 6).
Образ Клеменса, парящего в церкви на своем Пегасе, отсылает к «религии воспарения» (Schwebereligion) Беттины, той новой религии, способной обогатить человечество, о необходимости создания которой она говорит в романе
«Гюндероде», посвященном подруге-поэтессе [Arnim 1959–1963, I, 327]. Порождена эта необходимость тем, что традиционная католическая религиозная практика не удовлетворяет религиозных запросов Беттины. В своих романах она описывает поиски Бога, идущие в сторону, противоположную пути ее брата Клеменса и некоторых ранних романтиков, например, Фридриха Шлегеля, перешедшего в католицизм. Беттина, напротив, начинает с опыта католического воспитания, полученного в детстве. После смерти матери (1793) она воспитывалась в католическом монастыре урсулинок во Фрицларе (с 1794). И этот опыт был для нее важным, значимым, она пишет о нем в трех своих эпистолярных романах, посвященных Гёте, Гюндероде и Клеменсу. Однако этот опыт не дал ей искомого ответа на вопросы о Боге, а привел к необходимости собственного религиозного поиска, о чем она пишет в романе «Гюндероде»: «Бог сотворил мир из ничего, всё время проповедовали монахини, – я всегда хотела знать, как это было возможно – они не могли мне этого сказать и заставляли меня молчать, но я бродила по окрестностям и всматривалась в травы , словно мне нужно было найти, из чего они были сотворены. – Теперь я знаю, он создал их не из ничего, он создал их из Духа , этому я научилась от поэта, от тебя, Бог – Поэт , да, так я Его понимаю» [Arnim 1959–1963, I, 325].
Как и другие романтики, в том числе повлиявший на нее Фридрих Шлейермахер, Беттина пытается примирить пантеизм и христианство. Ее аргументация такова: Бог – личность, но, будучи Творцом, он, как Поэт (Poet), растворяется в своем творении. Так Бог одновременно является личностью, и ей не является. Так же и поэт (Dichter), будучи образом и подобием Божиим, одновременно является личностью и ей не является, поскольку творит при помощи своего духа одновременно чувственное и внечувствен-ное бытие [Arnim 1959–1963, I, 325].
Поэтому – в том числе и с религиозной точки зрения – для Беттины так важно отстоять брата как поэта . Включив в свой роман не печатавшиеся ранее стихотворения, она представила Клеменса как лирика, так же, как в предыдущем романе содержалась не только переписка с Гюндероде, но и ее произведения. Этим она привлекла внимание к поэтическому творчеству Гюндероде и Брентано. Однако схожий прием был применен и в более раннем романе «Переписка Гёте с ребенком», хотя Гёте, конечно, не был автором, нуждающимся в дополнительной рекламе. Для Беттины было важно показать, как связаны жизнь и поэзия (вопрос, волновавший и Гёте в книге мемуаров «Поэзия и правда»), как прорастает поэзия из жизни и оплодотворяет саму жизнь, как (по выражению из романа «Гюндероде») «из весенних элементов поднимается цветок, и цветущий дух стоит посреди весеннего сада поэзии» [Arnim 1959–1963, I, 418]. Обратим внимание на флоральную метафорику, образы весны и цветка относятся здесь к жизни, становящейся поэзией.
2. Завещание поэта: «а когда я умру, сплети мне из них венок»
Свой взгляд на творчество брата Беттина обосновывает, ссылаясь на то завещание, которое он оставил ей (в отличие от завещания брату Кристиану). Мотив завещания звучит уже в полном названии романа. В начале мы перевели эту его часть, «wie er selbst schriftlich verlangte», несколько вольно, «как он сам того желал», более точно, хотя и менее поэтично, это дополнение звучит как юридическая формулировка: «как он сам об этом письменно распорядился».
Мотив завещания усиливается эпиграфами к роману. Оба эпиграфа представляют собой выдержки из писем Клеменса Брентано. Первый гласит: «И, милое дитя, сохрани мои письма, не дай им потеряться, они – самое благочестивое, самое любвеобильное из того, что я написал в своей жизни, я хочу их когда-нибудь снова перечитать, и в них вернуться в запертый рай (verschloßnes Paradies). Твои для меня священны! – Гейдельберг, 1805» [Arnim 1959–1963, I, 13]. Второй его дополняет: «Не потеряй ни одного моего письма, относись к ним как к святыне (halte die heilig), когда-нибудь они должны будут напомнить мне о моем лучшем я, когда меня станут преследовать призраки, а когда я умру, сплети мне из них венок. – Голландия, 1808» [Arnim 1959–1963, I, 13].
Роман Беттины – памятник брату во исполнение его завещания. Если читать его так, то это уже не «Весенний венок Клеменса Брентано», а «Весенний венок Клеменсу Брентано», погребальный венок, венок на могилу поэта, венец его славы. Такая трактовка принята и в современной немецкой научной литературе. Так, Барбара Бекер-Кантарино отмечает, что мотив «весеннего венка» становится лейтмотивом книги, а сам образ – и стилизацией под лавровый венец, и данью памяти усопшему брату [Becker-Cantarino 2019, 420]. Со стилизацией под лавровый венец, правда, согласиться не дают слова самой Беттины из предисловия к роману, где помпезным венкам славы из лавра, дуба и руты противопоставляется простенький венок из полевых цветов: «Я могу предложить эту благоухающую весной книгу только тому, в отношении кого я не сомневаюсь, что он не сочтет слишком малым венок из полевых цветов» [Arnim 1959– 1963, I, 17]. Этот образ связан с «патриотическим благородством, стремлением к истине, верой в божественные предметы, почитанием народности» [Arnim 1959–1963, I, 17], и, если отвлечься от посвящения принцу Вальдемару Прусскому, отсылает к идеям поэзии как духа народа, воплощенным в сборнике Арнима и Брентано «Волшебный рог мальчика» (1806–1808). В текстах, включенных в него, встречается флоральная символика, в том числе образы цветочного венка. В стихотворении «Смерть и девушка в цветочном саду» («Der Tod und das Mädchen im Blumengarten»), маркированном как летучий листок из Кёльна, описывается, как девушка вышла утром в сад нарвать цветов и сплести венок, но там ей явился страшный человек (по-немецки смерть, der Tod, мужского рода), пообещавший надеть на нее прекрасный венок – венец смертности [Arnim, Brentano 1979, 22–26]. В стихотворении «Дочка султана и мастер цветов» («Des Sultans Töchterlein und der Meister der Blumen»), Христос называется «мастером цветов», сад которого находится в вечности, он приносит девушке розы, «сорванные в смерти ради любви», и она становится невестой Христовой, надев венок из этих роз [Arnim, Brentano 1979, 13–15]. В качестве источника также указан летучий листок из Кёльна, но восходит этот сюжет к средневековой легенде о дочери султана в цветочном саду, пришедшей к выводу, что служить она будет тому Богу, который создал эти прекрасные цветы, и ставшей аббатисой в христианском монастыре [Eichenberger 2015, 370–382]. В этих текстах образ цветочного венка представлен как венок смертности и венец христианской жизни.
Характерно, что и Беттина использует подобную метафорику в своем творчестве. В романе «Гюндероде», действие которого относится примерно к тем же годам, что и создание «Волшебного рога мальчика», она пишет про человеческую жизнь как «цветочный сад Бога», где, благодаря мудрому садовнику, расцветает каждый бутон [Arnim 1959–1963, I, 368]. Важно, что и Клеменс, и Беттина употребляют флоральную метафорику, корни которой уходят в средневековую образность, не абстрактно-умозрительно, а в соотношении с собственной жизнью. Свою книгу «Переписка Гёте с ребенком», несмотря на ее скандальный резонанс, Беттина подарит урсулинкам во Фрицларе [Beck-er-Cantarino 2019, 4]. Описывая свой опыт познания жизни в монастыре, не во всем приятный, для передачи важных и трогательных моментов Беттина часто прибегает к образу сада. В «Переписке Гёте с ребенком» она пишет о монахине, которой она возложила на могилу кипарисовый венок, а еще одной монахине, умершей в молодости, усыпала могилу цветами. Другая монахиня была садовницей и долгое время выращивала розмарин, который потом посадили на ее могиле, а умерла она, держа в руке свои любимые гвоздики, которые как раз собиралась высаживать, и Беттина «по ее завещанию» посадила на ее могиле и эти гвоздики. Отметим, что здесь везде идет речь об усопших христианках, и Беттина задумывается о том, застанет ли и ее смерть, «избавляющая от земного тяготения», за высаживанием цветов [Arnim 1959–1963, II, 344–345]. Мы видим, что образы цветов, в том числе, образ венка, встречается у Беттины в контексте, связанном с погребением и памятью об усопших в ее более ранних романах.
Но почему тогда в романе это «Весенний венок»? Отчасти на этот вопрос может ответить одно из писем Клеменса, приводимое в романе, в котором он советует Беттине записывать свои мысли на бумаге, ведь когда-нибудь «такие листки станут любовной памятью утекших весен» (liebliche Andenken verflos-sner Frühlinge) [Arnim 1959–1963, I, 21]. Сплетенные в венок листки писем, таким образом, становятся в романе Беттины хранителями памяти. Характерно, что далее в письме Брентано приводится образ простой бедной девушки, не умевшей писать и обозначавшей все свои самые яркие впечатления при помощи цветочных лепестков. Впоследствии девушка научилась писать, но движение ее души, ее развитие и становление в большей степени отражали цветочные лепестки [Arnim 1959–1963, I, 21]. Этот образ вводит сравнение писем с цветами и дает новый ключ к пониманию названия «Весенний венок, сплетенный из юношеских писем». Воспоминание об усопшем брате носит действенный характер – это труд памяти, плетение венка из цветов ушедших весен.
В более позднем творчестве Брентано мотив весны будет иметь иное значение. В стихотворении «Весенний крик раба из глубины» («Frühlingsschrei eines Knechtes aus der Tiefe»), написанном в 1816 и опубликованном в 1841 г., герой взывает: «Господи, помилуй меня, чтобы мое сердце снова расцвело; ни одна весна земли надо мной еще не сжалилась» [Brentano 1963–1968, I, 331]. Стихотворение отсылает к покаянному псалму «De profundis clamavi» («Из глубины взываю к Тебе, Господи», Пс. 129), в западном христианстве применяемом не только в качестве покаянной, но и погребальной молитвы. Истинная весна здесь – весна обновления сердца, весна покаяния, весна воскресения. Этот смысл придает глубину образу «весеннего венка», но это уже прочтение ретроспективное, сквозь призму всего творчества Брентано.
Эпиграфы к роману относятся ко времени подготовки и выхода издания «Волшебного рога мальчика». Помимо мотива завещания, в подтверждение которого приводятся слова самого Брентано, обратим внимание на другие слова, о лучшем я, проявляющемся именно в этих письмах. Именно они – «самое благочестивое» из всего, что он написал в жизни. Эти слова, относящиеся к 1805– 1808 гг., Беттина цитирует в 1844, после того как Клеменс много лет провел у одра стигматизировавшей Анны Катарины Эммерик, записывая ее видения, после того как на их основе (хотя и не без привлечения других источников) были написаны «Горькие страдания Господа нашего Иисуса Христа» (1833), а до того «Сестры милосердия и уход за нищими и больными» (1831). Такое изменение временного контекста заставляет задавать вопрос: и после всего этого самое благочестивое и самое святое – письма «Весеннего венка»? Именно они напоминают о «лучшем я», то есть, образе Божием в человеке? Чья это точка зрения? Клеменса в прошлом или Беттины на момент создания романа? Действительно ли Беттина создает образ брата «из времен его молодости до его обращения к религии» [Becker-Cantarino 2019, 418], когда он был «учеником Тика и иенских романтиков» и жизнь для него была «полна преизбыточной, весенней радости» [Жирмунский 1919, 71]? Эпиграфы заставляют нас несколько иначе оценивать идею Беттины. Она представляет читателю мироощущение Брентано тех лет не как этап биографии брата, а именно как образ его «лучшего я», для нее это – образ поэта.
3. «Я сам в себе собрал все венки»: пространство писем как hortus conclusus
Значимость этого образа подчеркивается организацией писем как сакрального пространства. Его конструирование включает в себя метафору « запертого рая », которую можно трактовать и как время юношеской чистоты и наивности, которые уже не вернуть. «Запертый рай» – это рай, закрытый для человека в результате грехопадения. Мифологема утраченного рая, восходящая к «Книге Бытия», включает в себя представление о закрывшемся для человека саде (Быт. 3: 23–24). Эпиграф лишь намекает на такое развитие, но важно, что именно содержание ранних писем определяется в нем как самое благочестивое, самое святое , то, что впоследствии может быть утрачено, но в чем, вернувшись, можно найти утешение. Образ «запертого рая» перекликается и с мотивом «запертого сада», восходящего к «Песне Песней»: «Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник» (Песн. 4: 12). В Вульгате, латинском переводе Библии, знакомом Клеменсу Брентано, этот «запертый сад», или «сад огражденный» из «Песни Песней» называется hortus conclusus [Vulgate 1997, 1621]. В средние века сад часто уподоблялся книге, а книги назывались «Вертоградами», «Садами заключенными» (hortus conclusus) [Лихачев 1998, 54, 57], молитвословы именовались «Вертоградом души», иначе говоря, «садом души», «садиком души», по-латыни «Hortulus animae», по-немецки в разных изданиях «Der Seelen Würzgarten», «Der See-len Garten», «Der Seelen Lustgärtlein». В библиотеке Клеменса Брентано был целый ряд подобных молитвословов разных лет [Brentano, Brentano 1853, 6, 34], он с этой метафорикой был хорошо знаком. И переписка с близкой ему по духу Беттиной тоже становится для него таким сакральным замкнутым пространством, «садом души», где сестра моя «Песни Песней» префигурируется в образе сестры Беттины.
Аналогичную метафорику использует и Беттина. В «Весеннем венке» флоральные мотивы широко представлены в письмах Беттины, где она рассказывает брату – по его просьбам – о ее прежней монастырской жизни. В одном из писем «Весеннего венка» она отвечает Клеменсу: «Ты часто говорил мне, что мне нужно записать свои воспоминания о монастыре, который я покинула уже больше трех лет назад. Но они еще живы во мне, и я не могу отломить цветущие ветви от дерева, которым являюсь я сама. Эта монастырская жизнь набухла во мне почками, предчувствиями, которые должны дозреть до истины. Ведь дерево не может само украсть у себя аромат, пока еще заключенный (ver-schlossen) в нем. Всё это – не объект для меня, это я сама» [Arnim 1959–1963, I, 57]. Здесь мотив «сада души» приобретает новое звучание и перекликается c письмом Клеменса из «Весеннего венка»: «Все мои ощущения – цветистый садик для игр» («alle meine Empfindungen sind ein blumiges Spielgärtchen») и с приводимыми далее строками его стихотворения: «Я сам в себе собрал все венки. / Ибо не было никаких цветов, никакой весны» («Hab in mir selbst die Kränze all gepflücket. Denn keine Blume war, kein Frühling da») [Arnim 1959– 1963, I, 177]. Мы видим новый смысловой нюанс «Весеннего венка», раскрывающийся в этих строках: он сплетается во внутренней жизни души, которую и раскрывает перед нами переписка. В этом же письме, чуть ранее, речь идет и о ключах к «тихому саду Эдема», которые можно найти посреди мирской суеты, и обрести в этом саду «тихую нежную радость бытия» [Arnim 1959–1963, I, 177]. Мотив ключей обыгрывается в романах Беттины и через флоральную символику: и в «Переписке Гёте с ребенком», и в «Весеннем венке» есть сцены, посвященные детству, где молочница приносит цветы, доставляя радость Беттине. В «Весеннем венке» они называются Schlüssenblumen, «цветы-ключи» [Arnim 1959–1963, I, 69], а в «Переписке Гёте с ребенком» – Himmelsschlüssel, «ключи от неба» [Arnim 1959–1963, II, 151], по-русски это примулы, или первоцветы, первые весенние цветы. Hortus conclusus тут – мир детства, также утраченного, оставшегося лишь в воспоминаниях, подернутых грустью – Беттина и Клеменс рано осиротели.
4. «Цветы, вероятно, – любовные мысли природы»: философия жизни Беттины фон Арним
В «Весеннем венке» Беттина пишет о личных впечатлениях, о своем пребывании в саду и наблюдением за цветами и деревьями. Своими переживаниями она делится с братом. В предисловии к роману Беттина обыгрывает мотив простоты и безыскусности такого восприятия жизни через образ полевых цветов. Письма-цветы, сплетаемые в венок, выражают непосредственный, органический опыт переживания жизненных впечатлений, что было крайне важно для самой Беттины в связи с ее отказом от рационалистической философии.
В «Весеннем венке» философия (но не мышление, не мысль!) отвергается как сковывающая дух система: «Всякая философия душит, опутывает сетями, а именно грубыми нитями, вольный дух» [Arnim 1959–1963, I, 209]. Еще до того, в романе «Гюндероде» Беттина пишет о своем неприятии философии, о том, как ее физически тошнит от всякого философствования, на что Каролина замечает: «Ты ведь закрылась от философии, а твоя природа ее так личностно выражает, как дух, и душа, и тело <…> если твоя органическая природа всецело является философией, тебе не надо усваивать ее в созерцании» [Arnim 1959–1963, I, 465]. В этой же книге Беттина приводит и слова брата Клеменса: «Когда ты говоришь, ты умна, и доходишь до того, о чем философы еще не знают» [Arnim 1959–1963, I, 376].
Отказ от рационального философского мышления у Беттины связан с выбором органических, природных образов для описания мира и его смыслов. В «Гюндероде» флоральная метафорика выбирается для описания такой органической философии жизни как прорастания смысла: «мысль – цветок всепри-сутствия духа (Blüte der Geistesallheit), мелодия – цветок гармонии. Всё, что открывается человеческому духу <…> – это божественная поэзия. <…> В ней оформляется дух, становится цветком поэзии Бога, я называю это философией. Я думаю, мы не можем понять философию, в нас лишь расцветает цветок» [Arnim 1959–1963, I, 415].
Органический характер не только жизни, но и мышления выражен у Беттины через флоральную метафорику: «Всё пережитое – росток жизни» («Al-les Erlebte ist Lebenskeim»), – пишет Беттина в «Гюндероде» [Arnim 1959– 1963, I, 528]. В «Весеннем венке», в одном из писем Клеменсу, речь идет об «источающих мудрость» листьях дерева, под которым Беттина читала письмо от брата, о цветах как «любовных мыслях» природы [Arnim 1959–1963, I, 108]. Говоря о садовнике, Беттина уравнивает понятия «дух» и «любовь», упоминая, что люди отказывают садовнику в отсутствии духа, хотя он воспринимает природу именно в духе, поскольку созерцает ее духовно, то есть, с любовью («und kann also mit Geist beobachten, das heißt, mit Liebe») [Arnim 1959–1963, I, 108]. Здесь Беттина, следуя за ранними романтиками, как поначалу и ее брат, выражает представления о «мистически одухотворенной природе» [Жирмунский 1919, 71], природе в ее трансцендентальной сущности, как носителе запечатлевшегося в ней божественного начала. Такие представления встречаются не только у ранних немецких романтиков, но в более позднее время, у Эмерсона в трактате «О природе» (1836), или у Кольриджа в сонете «К природе» (1820, опубл. 1836). В романе «Гюндероде» Беттина, подобно Кольриджу, пишет о природе как «алтаре» и «храме, где творения поднимаются как молитвы» («ein Tempel, wo ihre Geschöpfe als Gebete aufstei-gen») [Arnim 1959–1963, I, 248].
Но полемика в «Весеннем венке» о том, что такое «дух» (Geist), связана с особой философией жизни Беттины, для которой главное – переживание (Er-lebnis), в этом ее можно считать предшественницей Вильгельма Дильтея. В отрефлексированном виде ее философия жизни особенно выражена в «Гюн-дероде»: «Прежде всего, я хочу стать господином своего мышления; а именно, заполнять время живым (дающим жизнь) мышлением. Есть мышление, которое растрачивает жизнь (verlebt), и то, которое ее переживает (erlebt). Как собрать себя так, чтобы мой дух всегда был направлен на переживание (Erleben)?» [Arnim 1959–1963, I, 375–376].
Такую задачу ставит перед собой Беттина в романе «Гюндероде», такой образец дает она в «Весеннем венке» – образец мышления, переживающего жизнь, – выполняя просьбу брата, также ставшую завещанием: «Прошу тебя, перенеси все те мысли, которые приходят тебе в голову, на бумагу, <…> пусть всё течет само собой, не думай сразу о том, что к чему, и к какому концу это приведет; концом всякого познания являемся мы сами, люди, и наш возвышенный талант любить их, понимать и делать себя понятным им» [Arnim 1959–1963, I, 20–21].