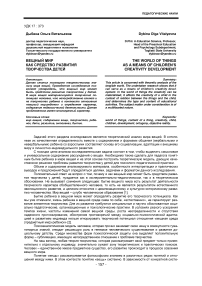Вещный мир как средство развития творчества детей
Автор: Дыбина Ольга Витальевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена теоретическому анализу мира вещей. Проведенное исследование позволяет утверждать, что вещный мир может быть средством развития творчества у детей. В мире вещей материализуется творческий потенциал человека, что непосредственно влияет и на творчество ребенка в контексте отношения «вещный мир-ребенок» и определяет характер, содержание педагогической деятельности. Данная проблематика имеет многогранный характер.
Мир вещей, содержание вещи, творчество, ребенок, дети, развитие, онтогенез, бытие
Короткий адрес: https://sciup.org/14936341
IDR: 14936341 | УДК: 17
Текст научной статьи Вещный мир как средство развития творчества детей
Задачей этого раздела исследования является теоретический анализ мира вещей. В онтогенезе их качественная определенность вместе с содержанием и формами общения (вербальными и невербальными) ребенка со взрослыми составляют основу его социализации, адаптации к внешнему миру и личностно-индивидуального развития.
С позиции цели анализа исследовательская задача состоит в том, чтобы выделить смысловое и универсальное содержание рассуждений о вещах. Необходимо также сделать для педагога понятным бытие ребенка в мире вещей и на этой основе построить теоретическую модель, дающую качественное решение проблемы развития творчества у детей для психолого-педагогической практики.
Объем и содержание анализируемого материала, особенности интерпретации и практических выводов и предложений будут определяться целями, задачами и форматом данного исследования.
Положительный ответ на вопрос о том, почему и как вещный мир может быть средством развития творчества у детей, нуждается как в экспериментально-педагогическом, так и в теоретическом обосновании. Не вызывает сомнения следующее: бытие вещного мира есть результат деятельности творческого характера обобществленного человека, то есть не является результатом естественного эволюционного развития, а целиком относится к цивилизационному и культурно-историческому развитию человечества. Мир вещей – сугубо человеческое образование [1].
Бытие ребенка в вещном мире может определять развитие его творческого потенциала. Как мы уже отмечали, жизнь ребенка в вещной среде сама по себе, «естественно», не гарантирует развитие элементов творчества. Для их развития требуются специальные и научно обоснованные социально-педагогические, организационные и психологические практики. В условиях резкого ускорения темпов жизни, частоты изменений самой вещной среды, роста неопределенности и отсутствия надежного прогнозирования, обострения противоречий между социально-психологической адаптацией и развитием индивида нельзя игнорировать творческий потенциал отношения «вещная среда (предметный мир)-ребенок» [2].
Психоаналитическая модель человека, которая прочно занимает свою нишу в совокупности гуманитарных знаний, отводит решающую роль в генезисе человеческого существования и развития дошкольному детству. Среди множества форм психологической защиты она выделяет положительную форму – сублимацию, имеющую непосредственное отношение к проблеме творчества.
На наш взгляд, любая теория творчества, которая рассматривает свой предмет только применительно к отдельному индивиду, значительно сужает зону теоретических и практических поисков. Человек – единственное живое предметное существо, его развитие происходит в процессе освоения вещного мира.
Понятие «вещь» рассматривается философским знанием в различных рядах понятий и отношений между ними. В этом контексте понятие «вещь» системно. В зависимости от конкретной систе- мы понятие «вещь» имеет различное значение, получает особенное смысловое содержание и несет определенную ценностную и практическую нагрузку. Задача собственно философского знания – дать предельно общее и универсальное определение вещи, обосновать (сделать легитимным) и выявить теоретико-методологическую составляющую понятия «вещь». Вместе с тем (обратим на это особое внимание) мыслительная работа позволяет сформировать наиболее глубокие и фундаментальные модели познавательной и практической деятельности, опирающиеся на основные предположения об устройстве мира как целостности.
Прежде всего, понятие «вещь» рассматривается в ряду «вещь-свойство-отношение». Функция этих взаимосвязанных понятий состоит в том, чтобы быть предельно обобщенным выражением реального многообразия мира, а также объектами человеческого познания и действия. Вещи, свойства и отношения являются основными элементами структурной организации рукотворного, созданного людьми, объективного мира. По логике Г.И. Челианова, изучать можно главным образом вещи, преимущественно отдельные свойства или отношения, но нельзя изучать что-либо иное, кроме вещей, свойств и отношений [3, с. 9].
Несмотря на очевидность (возможно, вопреки ей) и четкую аргументацию, вопрос о статусе понятия «вещь» (и соотносимых с ним понятий) вызвал определенную проблемную ситуацию. Содержание и результаты дискуссии имеют, на наш взгляд, методологическую и практическую ценность.
Признавая, что реальный мир состоит из вещей (предметов), их свойств, отношений, связей и т.п. Понятия «вещь», «свойство», «отношение» обладают абстрактностью и выражают объект для последующего категориального определения. Функции понятия «вещь» и понятия «суть» вещи в познавательной и практической деятельности различны, хотя соотносятся друг с другом. Для нас принципиально важным является осмысление объекта изучения в форме вещи, свойства или отношения.
Для целей педагогического исследования более продуктивным представляется философский анализ связей «вещь-свойство», «вещь-отношение», а также выявление их исторической динамики. Прежде всего, обратимся к конкретному содержанию понятия «вещь».
Особое содержание вещи, отличное от содержания свойства и отношения, характеризуется следующим образом. Вещь – это фрагмент непосредственного бытия, обладающий устойчивыми целостностью и качествами. У вещи есть границы, ее бытие как бытие отдельного определяется относительно (или на фоне) бытия других вещей. Ее бытие конечно (бесконечных вещей нет). Бытие вещи соотносится с его отрицанием (небытие вещи) – буквально через разрушение, исчезновение, опосредованно через то, чем данная вещь не является (например, очки – это не футляр для очков). Конечность – значимая черта вещи, поскольку в существовании вещей выражается дискретность, прерывность, дифференцированность и многообразие предметного бытия.
Следует сказать, что приведенные определения вещи как «тела» опираются на чувственное восприятие и могут толковаться как недостоверные, содержащие налет субъективности. Вместе с тем характеристика вещи (и свойства, и отношения) как формы предметной реализации бытия не только не исключает, но и предполагает «субъективный» налет. Различение объективного и субъективного в любом познавательном образе является необходимым условием «чистоты» в понимании объективного и субъективного начал познания. Принцип различения представляет для нашего исследования несомненный интерес, поскольку взаимодействие ребенка с вещами начинается с непосредственного восприятия, когда еще не установлено различие между эксплуатационными характеристиками (потребительскими) вещи и характеристиками, в которых овеществлена их человеческая природа и ценность. Недоверие к чувственному восприятию указывает скорее на недоступность некоторых особенностей вещи для непосредственного восприятия (о чем подробнее будет сказано далее).
«Устойчивая целостность и качество» вещи как характеристика ее бытия соотносится с устойчивым восприятием вещи как целого (по меньшей мере, в пределах времени восприятия). Восприятие вещи как целого возможно на фоне других вещей, то есть на различении и противопоставлении объекта восприятия и фона. Вещь не поддается полному обзору, ее нельзя видеть целиком, какой бы удобной ни была позиция наблюдателя. «Доводить» образ вещи до целого по его части позволяет феномен гештальткачества (свойства целого), открытый австрийским психологом Хр. Эренфельсом. Способность воспринимать образ вещи как целое по его части – ценный навык, так как ростки творчества (если ограничиться «пространством» личного бытия и отвлечься от особенностей социокультурного и исторического контекста) начинают пробиваться с того лучезарного момента, когда человек способен взглянуть на привычную и знакомую ситуацию с нестандартной позиции, с позиции уникального и индивидуального бытия творца.
Существенной особенностью вещи является также ее ограниченность (бытие, взятое в границах), которую нельзя определить вне ее отношений с другими вещами. Свойство, в свою очередь, выражает конкретность данной вещи и определяется через совокупность отношений данной вещи с другими вещами. Вещь обладает свойствами и является их носителем постольку, поскольку ее бытие соотносится с внешним для нее существованием. Вещь отличается от других вещей целостностью своих свойств, но в то же время через каждое свойство в отдельности она тождественна другим вещам. Отношение есть опосредованное бытие вещей, то есть их существование через другие вещи. Таким образом, понятия «вещь», «свойство», «отношение» рассматриваются философским знанием как соотносительные и друг друга определяющие, то есть рассматриваются в форме связей, опосредований.
Как уже отмечалось, вещь, свойство, отношение являются формами предметности объективной реальности. Все, что включено в систему отношения «человек-мир», дифференцируется первоначально в таких формах предметности, как вещь, свойство, отношение. Вещь как предмет – не просто вещь «сама по себе» (И. Кант), а вещь, рассматриваемая в познавательном, ценностном или практическом плане («предмет» и означает «метать перед»). Философское осознание взаимосвязей между формами предметности позволило расширить представление о них и побудило ученых рассматривать их не только как формы предметности реального мира, но и формы предметности содержания мышления [4, с. 43]. В данном контексте вещь означает форму мышления, которая обусловливает предметное содержание познавательной и практической деятельности, отличную от формы свойства или отношения.
Этот теоретический ход мысли представляется важным в практическом плане, поскольку на уровне абстрактного мышления можно решить основную задачу – рассматривать ли данный объект в форме вещи, свойства или отношения. Для понимания вещи как потребительной и как меновой стоимости (вещь как товар) нужны познавательные формы мышления, которые определяются философскими средствами (мерой, качеством, количеством).
Категории качества и количества традиционны для европейской рационалистической философии, их содержание восходит к Аристотелю (качество, или «какое»; количество, или «сколько»). Категории качества и количества как философские определения вещей выявляют в них существенные параметры бытия. Г. Гегель обосновывает качество и количество как необходимые системные определения бытия. Он рассматривает качество как тождественную с бытием определенность. Вещь перестает быть тем, что она есть, если теряет свое качество. Качество – важнейшая первичная размерность вещи как таковой: или она есть, или ее нет. Качеством определяется дискретный характер бытия. «Переход» от одного качества к другому происходит скачкообразно. Количество тоже задает вещи определенность, но определенность внешнюю по отношению к определенности бытия вещи, которое выражается качеством [5].
Синтезом качества и количества, по Г. Гегелю, является мера. Все вещи имеют свою меру. Категория меры задает мышлению границы, в которых изменение количества не изменяет качество вещей. За пределами меры вещи перестают быть тем, чем они были. Используя современный язык науки, можно сказать, что рассмотренные категории позволяют моделировать как состояние и параметры вещей, так и системные характеристики взаимосвязей между ребенком и вещной средой.
Итак, выделение рядов «вещь-свойство-отношение», «вещь-вещество-вещественность», «каче-ство-количество-мера» позволило приблизиться к понятию «вещь». Системное рассмотрение этого понятия характерно для европейской историко-философской традиции. Существенным является различение в понимании вещи (как и свойства, и отношения) как всеобщей формы предметности реального мира и как формы предметности содержания мышления. Образ вещи предстает в единстве онтологического и гносеологического (познавательного) содержания, что, в свою очередь, соответствует современному представлению о знании, его видах и формах.
Анализ рядов «вещь-свойство-отношение», «качество-количество-мера» позволяет выделить принципиально важную в прикладном значении тенденцию: сдвиг в рассмотрении вещей от непосредственного восприятия (соответственно отношения и понимания) к употреблению вещи в качестве средства. Тем самым удается показать многомерное иерархическое бытие вещи.
В системе философского и общенаучного знания функция взаимосвязанных понятий «вещь», «свойство», «отношение» состоит в том, чтобы быть предельно обобщенным выражением реального многообразия мира, а также объектов человеческого познания и действия. В этом значении вещи, свойства и отношения являются основными элементами структурной организации созданного людьми объективного мира. Вещью можно назвать предмет, созданный для удовлетворения той или иной потребности человека с точки зрения условий его существования и необходимого его становления и развития как человека. Эта особенность вещи, на наш взгляд, непосредственно влияет на творчество ребенка в контексте отношения «вещный мир-ребенок», определяет характер и содержание педагогической деятельности. Присваивая функциональное и культурное содержание незнакомой вещи, ребенок активно переводит ее из плоскости «вещь для себя» в плоскость «вещь для меня», то есть он превращает ее из формы вещи в форму предмета.
Наше исследование показало, что ребенок легко осваивает предметное окружение в его изменении, движении, развитии, что это дает толчок для появления у дошкольника прогностического взгляда на рукотворный мир (предметы, вещи).
Ссылки:
-
1. Дыбина О.В. Творчество как сущностная характеристика человеческого бытия: моногр. М., 2001. 96 с.
-
2. Там же.
-
3. Чернов В.И. Анализ философских понятий. М., 1966. 215 с.
-
4. Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». М., 1983. 255 с.
-
5. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1968. Т. 1. С. 9–47.